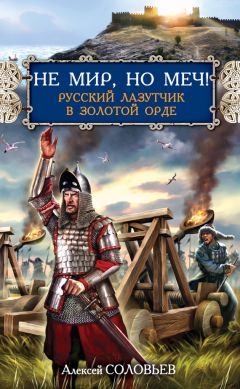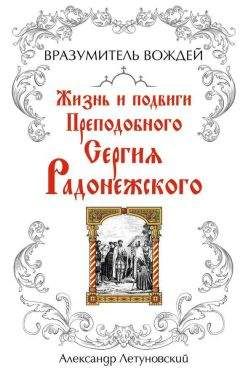Алексей Соловьев - Не мир, но меч! Русский лазутчик в Золотой Орде
— Спаси тя Христос, Добрыня, за заботу твою! Дальше пеший пойду.
— Чего ты? Давай до Киржача самого довезу, как подряжался?
— Отсюда начну службу свою править!
Возчик посмотрел на монаха, перевел взор на деревеньку и сокрушенно покачал головой. Прикрикнул на коня, торопя его далее. Симон перекрестил всех, кто проследовал мимо, наложил крест на себя и решительно пошел от дороги.
Тяжелый смрадный дух почувствовался издалека. Не лаяли собаки. На ближайшем лугу паслось несколько коров и табунчик овец, но пастуха рядом не было видно. Дверь первой избы была открыта. Симон вновь перекрестился и заглянул внутрь.
На широкой скамье лежало то, что раньше было мужчиной. На полу у порога чернел лик уже давно начавшей разлагаться женщины. Дружно зажужжали большие черные мухи, потревоженные вошедшим.
Вторая изба была пуста, зато в третьей покоились останки целой семьи. В хлеву лежала сдохшая корова, так и не сумевшая открыть припертые слегой воротца. Под стеной стоял почти новый заступ с непотемневшей еще рукояткой. Симон взялся было за него, затем сокрушенно покачал головой и отставил в сторону. Тревожить многодневные останки показалось ему кощунственным.
Убедившись, что вся деревня вымерла, монах достал из мешка секиру, дошел до леса и из двух тонких сосенок вырубил крест. Вырыл заступом яму на ближайшем бугорке, укрепил его и вновь вернулся к домам. Избы загорались одна за другой. Шесть больших погребальных костров вознеслись к небесам. Симон встал возле креста на колени и долго-долго читал поминальную молитву…
Уже выйдя за околицу за несколько сот саженей, он заметил какое-то шевеление в кустах на опушке. Присмотревшись, Симон увидел десятилетнего мальчишку, настороженно смотревшего на него. Не раздумывая, монах повернул к лесу. Отрок бросился прочь.
— Стой! Стой, дурачок! Чего испугался?!
То ли долгая одинокая лесная жизнь уже заставила скучать по человеческому общению, то ли вид инока, неспешно следующего за ним и не изъявляющего никаких враждебных намерений, но мальчик все же остановился, потом повернул вспять. Набычившись, дождался:
— Ты пошто нашу деревню спалил?
— Из деревни с тобою кто-нибудь еще живет?
Мальчик отрицательно мотнул головой.
— А отец-мать твои где?
— Мамко заболела и велела мне скотину выпустить и в лес убегать. Данька помер допрежь ее, кровью харкать зачал. А тятю не помню, он из похода княжьего под Новый Город не вернулся…
— Данька — брат твой?
— Ага, старший. Пошто пожег, спрашиваю? Где я теперь жить буду?
Симон вздрогнул. Всмотрелся в уже явно недетское лицо.
— А ты сможешь выжить тут один, чадо?
— Вона скока скотины-то! Коров подою, овцу зарежу, мясо будет, из шкуры зипун сделаю…
— Это пока тепло. А снега лягут, чем кормить их будешь? Сено где возьмешь? Изба одна осталась, но в нее входить до холодов не надо, смерть там живет. Может, со мной пойдешь? Как зовут хоть тебя, отрок?
— Митрий. А ты куда идешь, дядя? Тут вроде монастырей да церквей рядом нету.
— На Киржач на реку. Найду целую деревню, там тебя и оставлю.
На лице Дмитрия отразилась неимоверная внутренняя борьба. Видно было, что одиночество ему уже порядком надоело, но уходить от животных, кормивших его, от огородов, на которых росла репа, горох и капуста, мальцу тоже не хотелось. Наконец он решился:
— Говоришь, со снегом можно будет тута жить? Тогда останусь. Лес рядом, дрова будут, не сгину. Сенов сколь смогу — накошу. Иди один далее!
Симон почувствовал, как спазм прихватил горло. Он долго смотрел на Дмитрия, потом перекрестил его и пошел к дороге. Более версты инок молча вершил молитву о сохранении жизни ни в чем не повинного, прикоснувшегося к страшной болезни, но оставшегося пока невереженым чада.
К реке он вышел уже в сумерках. Перебрел заливной луг. Кузнечики прыгали во все стороны, высокая некошеная трава путала ноги. Травостой был хорош, но ничья горбуша его не коснулась. Обозрев окрестности, Симон решил пересечь реку и заночевать на высокой горе, заросшей мощными вязами и золотыми соснами. Лес сулил дрова и возможность постройки шалаша, высота — сухость: вечерние и утренние туманы не коснутся временной стоянки.
Уже достигнув вершины, Симон обратил внимание на старый мощный вяз, украшенный какими-то ленточками, на то, что роща эта явно посещалась людьми, судя по примятой траве. Но искать иное место было поздно, становилось темно. Наломав еловых лап, устроившись под густым хвойным деревом, в случае дождя вполне способным заменить путнику шалаш, инок достал из сумы хлеб, отломил краюху, пожевал. Испил воды из родника, что выбивался из-под земли прямо на склоне, помолился и устроился на ночь.
Глава 22
Сон человека, не навычного к долгому отдыху на природе, редко бывает крепким. Сон воина, ночующего в непосредственной близости к врагу, тоже. Но Андрею за свою жизнь доводилось много раз ночевать у костра, в наскоро поставленной веже, а то и просто на куске кошмы, подложив под голову пропахшее конским потом седло. Врагов он не чаял увидеть, а потому спал, умаявшись за минувший день, сладко и крепко. И пробуждение его, растянуто-преждевременное, было вынужденным, оттого что под ребро ткнули чем-то тяжело-острым.
Вокруг него рядом с вековым стволом ели стояли четверо, отрезая любой путь к бегству. Трое в лохматых одеяниях, столь нелепых даже в августовскую утреннюю прохладу, и четвертый в черном матерчатом плаще, с головою, покрытой длинным клобуком. В руках троих были сучковатые дубины, старец опирался на длинный посох с металлическим наконечником. Увидев, что Симон открыл глаза, четвертый произнес:
— Как ты посмел, монах, заночевать в священной роще бога нашего Велеса? Кто ты и откуда пришел?
— Дозволь узнать, прежде чем ответить, кого я вижу перед собою?
— Я — главный жрец капища Велеса в Радогостье[14], младший брат жреца Рада, — с чувством собственного достоинства ответил старик.
— А меня послал Великий князь московский Симеон Гордый для христианской помощи болящим и почившим от черного мора, — встав на ноги и отряхнув рясу, ответил монах.
Ехидная улыбка легла на губы жреца.
— Твой князь проклят нашими богами после того, как он приказал срубить священную дубовую рощу под Москвою. Немного времени осталось ему жить на этом свете! Раз ты служишь ему и кресту, ты тоже вскоре покинешь эту землю.
— Но в чем моя вина? Что я сделал такого, заслуживающего казни?
Тут один из спутников жреца нагнулся к уху старца и что-то ему прошептал. Тот немедленно вопросил:
— Это ты сжег деревню и поставил на пожарище крест?
— Да. Но я спалил избы, в которых поселилась черная смерть. Любой, туда вошедший, почти наверняка сам заболел бы и понес чуму дальше. Три-четыре дня — и он сам станет покойником. Я поставил крест не на пожарище, а на кладбище. Христианским душам надлежит упокоиться с молитвою и крестом.
— Их призвал к себе Чернобог! И не тебе, дерзкий, пытаться изменить волю богов. Если наши боги желают наказать людей — они это делают!
Симон вспыхнул:
— Но почему тогда твои боги, ты, твои слуги не погребаете усопших? Не закапываете и не сжигаете смертельно опасную плоть, а оставляете ее на пищу мухам, воронам и зверью? Для себя ты бы тоже хотел такой кончины?
Удар дубиною сзади поверг его на колени, и тотчас кованый металлический наконечник посоха ударил в грудь.
— Ты дерзок, монах! Перун рад будет получить такую жертву. Свяжите его! Слышите, идет гроза, это Перун спешит утолить свой голод. Привяжите его к священному дереву, с первым близким ударом грома я накормлю бога!
На самом деле уже совсем недалеко послышались раскаты приближающейся грозы. Язычники торопливо схватили Симона и примотали его к шершавому стволу. Жрец повернулся лицом к темным тучам и принялся что-то неразборчиво бормотать.
Симон почувствовал, как сердце провалилось куда-то вглубь, замерло, а потом начало работать тяжело и быстро. Он подумал, что, возможно, настало то самое искупление его грехов, о котором он всегда страстно молил Господа. Но вот только почему это должен был совершить не признающий силы и воли Христа язычник?
«Господи, отче наш, иже еси на небесах…» — само пришло на ум. Симон начал молиться споро и страстно, прося своего Бога явить волю и укрепить монаха в смертный час. Трое с интересом внимали словесному поединку жреца и инока.
Молнии ярко освещали только-только начавший было просыпаться от ночного сна лес. Удар следовал за ударом, паузы между вспышками и грохотом становились все короче. Старик закончил свои речитативы, подошел к священному дереву, поднял свой посох, осмотрел острие и произнес:
— О, великий Перун, прими жертву сию, и да сгинет крест на твоих землях!