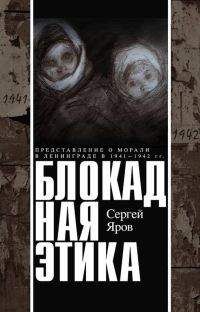Сергей Яров - Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг.
Взгляд мемуариста не просто скользит по поверхности картины, бесстрастно отмечая ее подробности – он выделяет самое страшное и скорбное. «Недетское страдание» – это оценка, а не деталь картины. Она определена особо глубоким «вчувствованием» в другого человека, попыткой понять его состояние, меру пережитого им.
Отмеченное состраданием описание детей в дни блокады постепенно насыщается подробностями и в дневнике А.П. Остроумовой-Лебедевой. Порой даже самые драматичные отклики Остроумовой-Лебедевой кажутся однообразными, в них нет разноцветья слов. Эмоциональный фон ее записей о племянниках, способных к живописи мальчиков, которые «становятся все более вялыми и апатичными» [842] , можно оценить лишь в контексте всего ее дневника. Ее записи обычно далеки от экзальтации, но трудно не обратить внимание на отмеченные сочувствием и жалостью реплики и горькую интонацию рассказа. По более пространной дневниковой записи 16 ноября 1941 г. видно, как это наблюдение за детьми окрашивается трагизмом: «Мне жаль смотреть на моих племянников… Они, как бумага, бледные, худые. День ото дня становятся апатичнее и угнетеннее» [843] . Вскоре один из племянников умер. В последующих записях о другом из них, Пете, это ощущение близкой смерти становится доминирующим. Все есть в дневнике А.П. Остроумовой-Лебедевой – голод, холод, бомбежки, безысходное горе – но строки, посвященные Петюнечке, как она его называет, пропитаны каким-то особым, щемящим чувством. Записи о нем становятся все тревожнее: «Бледен, как покойник, худ невозможно» (24 мая 1942 г.), «очень слаб и вял, смотрит бледными, печальными глазами» (27 мая 1942 г.), «слаб, двигается очень медленно, еле передвигая ноги» (30 мая 1942 г.). Жалость к угасающему мальчику не исчерпывается в дневнике лишь описанием его внешнего вида. Она проявляется и в других записях, усиливающих чувство горечи: «Сидел у открытого окна, смотрел на прекрасное небо, весенние облака и зеленеющие деревья и тихонько говорил: „Как хорошо!"» [844] .
Этот истощенный донельзя 15-летний подросток, ходящий, чтобы не упасть, с палкой, очень восприимчив, талантлив, умеет ценить красоту, делает хорошие этюды, мягок, заботлив – все, каждый штрих подмечает в его облике художница. Пристальность ее взгляда – верный признак того, как углубляются переживания: 24 мая 1942 г. мальчик не смог самостоятельно дойти до трамвая, а через три дня Остроумова-Лебедева с надеждой пишет: «На какую-то крошечную долю, очень микроскопическую, ему лучше» [845] . Возможно, в силу присущей ей деликатности Остроумова-Лебедева не сообщает о том, как делилась едой с мальчиком – стоит предположить, что он приходил к ней не только учиться живописи, но и, ожидая, что его могут покормить. Для художницы, человека доброго и отзывчивого, это было естественно, но смотреть, как ест голодный подросток…
2
Потрясение, испытанное при виде страданий детей, особенно заметно по дневнику М.В. Машковой. Ее дети – Галя и Вадим – столь же истощены, как мать и отец. Мальчик старается держаться изо всех сил. Его младшей сестре это дается труднее, ей не все можно объяснить, не ко всем испытаниям она готова. Она знает, что нельзя выпрашивать хлеб, но не может остановиться. Все это замечает взгляд матери. Горечь записи 20 февраля 1942 г. – «Галька шепотом просила у Вадима сухарик» – усугублена дальнейшим описанием этой сцены: «Ребята в сумрачной комнате, голодные, забились в углы» [846] . «Галька вечерами смотрит умоляющими глазами на Вадика, молчаливо выпрашивая кусочек хлеба», – записывает она в дневнике на следующий день [847] .
Ее взгляд подмечает до мельчайших подробностей все светлое в дочери: «Галька хороша со своим щебетаньем, голодными глазенками, мечтами о еде, любопытным восприятием окружающего» [848] . А вот и рассказ о том, как дочь получила первомайский подарок в детском очаге: «Она боялась выпустить из рук пакет, десятки раз выкладывает и укладывает несколько конфет, два печенья, несколько изюминок и маленькую коврижку» [849] . Роль «скопидомицы» кажется неестественной и даже комичной для маленькой девочки, хотя для нее-то это была далеко не игра: голодный ребенок боится потерять несколько изюминок, еще и еще раз, как бесценное сокровище, перебирая их.
«У моих детей жизнь изуродованная и, пожалуй, страшная, но они трогательно хороши», – пишет она в дневнике 25 февраля 1942 г. [850] . И через записи о пайках, жалобах и слезах, о стыде за то, что нельзя ребенку дать больше, чем ему положено, – через все это прорывается любование детьми и сострадание, по-разному выраженное, иногда не переданное прямо, но ощущаемое даже в скупых характеристиках.
В письме С.А. Павловой, отправленном в январе 1942 г., мы обнаруживаем тот же, отмеченный любовью, взгляд на детей – замерзших, облаченных в убогую одежду Дочка Надя – в фланелевом платьице, а поверх него вязаная кофточка, оренбургский платок. И это не помогает: «Маленькие ручки распухли, щечки и нос сине-багровые» [851] . Дети предельно истощены, и первые слова девочки, которая услышала мать, зайдя в комнату – «дай пили», т. е. хлеб – разве не способны они усилить чувство сострадания? И вид 12-летнего сына, столь же плохо одетого, с «прозрачным личиком», с синевой под глазами, безразличного ко всему, «сосредоточенно» смотрящего лишь на сумку матери – не рождает ли он особо щемящее чувство жалости?
«У детей изуродованная жизнь» – но взгляд матери часто не отмечает того, что калечит детей. Сострадание несовместимо с бесконечным перечислением тех знаков беды, что отпечатались, как клеймо, на детских лицах. Не выдерживает человек и обрывает этот страшный для него ряд – только лучшее, только доброе.
Глубину сострадания и любви можно измерить той радостью, с которой узнают, что детям лучше, что они поправляются, что есть возможность покормить их сытнее. В дневнике профессора библиотечного института Л.Р. Когана постоянно встречаются записи о том, как голодают его дети, которым ничем не помочь: «Есть нечего… Тяжело слышать детские просьбы есть» [852] , «с утра дети с жадностью набросились на масло. Жалко глядеть на них. Теперь их мечта – сахар и шоколад» [853] . Все это накапливалось, повторялось изо дня в день и становилось непереносимее. Это сказывается и на тональности записей, все более горестных, надрывных, граничивших с отчаянием. «Надо детей передать в очаг – там кормят гораздо лучше, чем это можем сделать мы», – отмечает он в дневнике 3 марта 1942 г. [854] . Решился он на это не сразу – опасался эпидемий, подсчитывал, хватит ли денег – но решился.
6 марта 1942 г. дети «получили питание из очага». Он перечисляет выданные им продукты и ему трудно остановиться: «Сегодня им дали вкусную, правда, небольшую, котлету, хлеб, сахар для чаю; на обед вкусный… суп с клецками, приличную порцию манной каши на сладком молоке, хлеб; на полдник – сахар для чаю, хлеб; на ужин сладкий компот из сухих фруктов… с клецками и хлеб» [855] . Такие перечни получаемых продуктов не были в диковинку, ими заполнены десятки страниц блокадных дневников. Для дневника Л.Р. Когана это редкость – здесь чаще встречаются записи о книгах, о самочувствии, о положении в городе. И чем дальше читаешь эти строки, тем лучше начинаешь понимать, что возможно перед нами не скоропись прошедшего дня, а нечто большее. Каждый грамм, каждая крупинка, каждая крохотная котлетка, переданные детям и подсчитанные здесь с чрезмерной подробностью, возможно, нечто, что позволяет выдавливать, пусть по капле, «по грамму», ужас увиденных им мук: «Дети были впервые вполне сыты. Не лихое дело! Глядели мы на них и радовались» [856] .
Степень сострадания можно измерить и той тревогой за жизнь детей, которую испытывали люди, находившиеся у порога смерти. Содержание предсмертных наставлений было разным: от просьб не тратиться на гробы до обычного пожелания заботиться
о себе. Одна из блокадниц вспоминала, как ее отец, почувствовавший, что скоро умрет, призывал своих родных беречь себя, требовал, чтобы «с ним не возились» и особенно просил жену сохранить дочь. [857] Было ли это обыкновением в блокадном городе? Нет. Куда чаще мы встречаем рассказы о просьбах дать перед смертью «наесться», о невнятной речи, криках и стонах агонизирующих людей и даже об обвинениях родных в утаивании хлеба. Но и у тех, кто умирал, страх за судьбу детей нередко оставался до последней минуты, прорываясь через оцепенение чувств, бессилие и обмороки: «…Мать не встает, дети живые ползают по ней. Все вшивое, ползают и вши и дети. Мать говорит: „Забирай, забирай, я умру и буду знать, что дети присмотрены"» [858] .
Это было последнее, на что соглашались отчаявшиеся люди [859] . Е. Скобелева вспоминала о том, как после гибели отца мать все чаще начала ее жалеть, опасаясь, что скоро умрет, а дочь попадет в приют: «Там за непослушание ставят коленками на горох и очень бьют» [860] . Не исключено, что о приюте мать ничего не знала, но что-то слышала о них в детстве, чему-то верила из школьных уроков. Приют – это сиротство, а что может быть горше этого. Ребенок ищет мать взглядом, боится ее потерять – к кому же он прислонится после ее смерти, не к чужим же людям, которым нет до него дела.