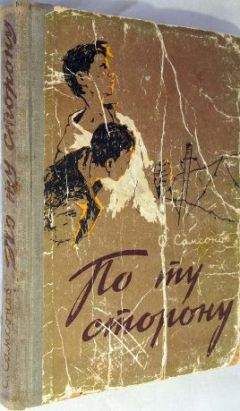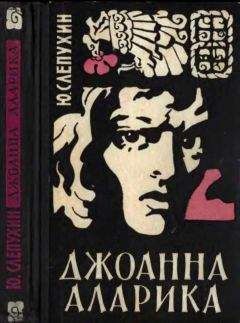Юрий Слепухин - Тьма в полдень
– Я считаю, война людей сама рассортировала, – примирительно вмешался другой голос – В тылу, понятно, это не так заметно, а вот на фронте... Чего, в самом деле, народ прошел с боями полтысячи километров, заметьте – отступая, в самый трудный период. Кто хотел, тот всегда мог остаться, мало ли их по селам разбрелось «в зятья»... А ведь как иной раз бывало: выйдут люди из окружения, оружие, знамя сохранили, еще и из трофеев кое-что прихватят, а тут начинается... «При каких обстоятельствах, да как, да почему?..»
– Странно вы рассуждаете, товарищ майор, – возразил другой голос, помоложе и повыше тембром. – Как будто под видом окруженца не может явиться любой диверсант, да хотя бы и просто разведчик! Враг – он хитер, вы его повадок еще не знаете...
– А вы потрудитесь меня не учить! – вскипел майор. – Я его повадки на собственной шкуре изучал, когда вы, извиняюсь, титьку сосали!
– Ладно, ладно, товарищи, – успокаивающе вмешался кто-то. – О чем тут спорить, бдительность во время войны безусловно нужна, речь идет о перегибах.
– О бдительности никто не спорит, – опять послышался злой голос человека из двадцать шестой армии. – В душу людям нельзя плевать, вот про что я толкую!
– Дело даже не в перегибах, – сказал уже спокойно майор, как видно из отходчивых. – Дело в нервах, вот в чем. Что греха таить, войну мы себе иначе представляли, кто мог думать, что она так обернется. Ну, занервничали, понятно. Отсюда и недоверие излишнее. Капитан совершенно справедливо сказал: плохо мы до сих пор воевали, неграмотно и неумело... Да я не о людях, – повысил он голос, очевидно в ответ на какое-то не расслышанное Сергеем возражение. – Кто о людях говорит! Бойца нашего я знаю, против нашего бойца ни один солдат в мире не выстоит, уж на что отменные солдаты у японцев... Ну, те дисциплиной берут, видел я их в Монголии, у них все по божественной иерархии построено. Высшее божество – император, микадо по-ихнему, а самое низшее – ротный фельдфебель. Низшее, но все же, заметьте, божество! Тут слепое повиновение, с закрытыми глазами. Наш боец – другое дело, он и дисциплинирован, но главное у него – смекалка собственная в бою, вот это самое, во! – Слышно было, как майор похлопал себя по лбу. – Так что я не про него говорю, что плохо, мол, воевал... Боец наш чудеса делал прошлым летом, про одних этих окруженцев – придет время – книги будут писать, про то, как они по двести-триста километров лесами к своим пробивались... Я про другое – с командными кадрами у нас плоховато...
«Точно, – подумал Сергей, пытаясь устроиться поудобнее на твердой полке. – Особенно с такими вот, как я. На кой черт меня туда понесло... Был бы приличный боец, из тех, против кого ни один солдат в мире не выстоит, а так получился младший лейтенант-недоучка. Ну ладно, что ж теперь делать, на фронте будем доучиваться...»
Глава четвертая
Офицер приехал поздно вечером, когда Таня уже собиралась спать. Он вошел вместе с солдатом, бегло осмотрел комнаты, сказал «гут» и, не снимая плаща и фуражки, опустился на диван в столовой. Солдат вышел, со двора послышался скрип давно не отворявшихся ворот, урчанье мотора и треск ломаемых кустов. Потом солдат вернулся с чемоданом и клетчатым портпледом. Судя по цвету мундиров, приезжие были летчиками.
Офицер полулежал на диване, вдавив плечи в спинку и вытянув скрещенные ноги в ярко начищенных сапогах, и равнодушно наблюдал за Таней, которая убирала из столовой свои вещи. Раз или два она мельком взглянула на него, боясь задержать взгляд, – он был совсем молод, лет двадцати пяти, и был бы красив, если бы не страшные, лишенные выражения глаза – прозрачные, и какие-то совершенно пустые. Когда Таня их увидела, ей стало не по себе. Она торопливо собрала вещи и заперлась в своей комнате.
Недаром ей так не хотелось, чтобы Володя уезжал в этот Кривой Рог! Правда, он поехал ненадолго – достать для артели какие-то дефицитные латунные трубки, – но последние дни в городе появилось много войск, очевидно, шла какая-то переброска, и несколько домов на Пушкинской были уже заняты под постой. Таня очень боялась, что к ней вселятся как раз тогда, когда Володи не будет. Конечно, так оно и случилось.
А на следующий день – вот уж правда, беда одна не ходит! – Попандопуло преподнес ей еще одну приятную новость: объявил, что продает «Трианон» и намерен перебираться в Одессу.
– А как же я? – машинально спросила Таня, перепуганная распахнувшимися перед нею заманчивыми перспективами хождения в арбайтзамт и прочих радостей оккупационного быта.
– Поезжайте со мной, золотце, – виноватым тоном предложил великий комбинатор. – Оформлю вас как жену – чисто фиктивно, не подумайте чего-нибудь такого, упаси боже! Танечка, вы себе не представляете, шё за жизнь в Одессе. Никаких немцев, румынские товары, торговля полным ходом, Лещенко шикарное кабаре держит на Дерибасовской, на каждом углу бодеги пооткрывались...
– Что пооткрывалось? – спросила Таня с подозрением.
– Нет-нет, это просто кабачки такие – распивочные, больше в подвальчиках... Танечка, я на полном серьезе: приезжаем в Одессу, официально оформляем развод, и вы свободная птичка...
– Идите вы, – печально сказала Таня, – вечно у вас фантазии. Никуда я отсюда не уеду, вы это прекрасно знаете, мне только жаль, что вас не будет, я к вам привыкла. А за вас я рада, здесь вас рано или поздно повесили бы за ваши гешефты. Румыны, наверное, к этим вещам относятся более терпимо.
Попандопуло вздохнул и сказал, что в таком случае постарается заранее подыскать ей работу получше и полегче. Когда он ушел, Таня вспомнила вчерашнего офицера, и ей захотелось заскулить от тоски.
Постоялец, впрочем, оказался не таким уж страшным. Первые два или три дня она вообще его не видела: по утрам, когда уходила на работу, он еще храпел в столовой, а возвращался около полуночи, когда она уже читала, лежа в постели. Услышав его шаги на крыльце, Таня спешно выключала лампочку у изголовья, – однажды ей показалось, что офицер задержался и тронул дверную ручку, проходя мимо кабинета. Впрочем, может быть, он просто ошибся дверью.
Особенных неприятностей не доставлял и денщик, если не считать его болезненной любви к теплу. Дров оставалось уже совсем мало, Володя перед отъездом допилил остатки разломанного зимой сарайчика, а денщик охапками совал в печку драгоценное топливо. Таня часто заставала его на корточках перед открытой дверцей: блаженно зажмурившись, немец шевелил протянутыми к самому огню пальцами, словно его только что откопали из сугроба.
А потом у постояльца появился патефон. Однажды, вернувшись домой, Таня еще в прихожей услышала мелодию похоронного марша Шопена. Пока она умылась и поужинала у себя в комнате наспех разогретым вчерашним супом, немец успел прослушать пластинку три раза подряд, потом поставил что-то другое, не менее мрачное. Похоже, это был Вагнер. Она вышла в коридор, чтобы отнести на кухню пустую кастрюльку, – дверь в столовую была открыта, немец сидел за столом в застегнутом на все пуговицы мундире, с большим орденским крестом на шее, перед наполовину опорожненной бутылкой и патефоном, на котором кружилась траурно поблескивающая пластинка. Немец сидел выпрямившись, положив руки на стол, с закрытыми глазами. «Ненормальный» – подумала Таня со страхом.
С этого дня похоронная музыка стала наваждением, – Таня слушала ее еженощно, пока не удавалось заснуть. У постояльца начался, по-видимому, приступ какого-то своеобразного музыкально-алкогольного запоя, и все вечера он проводил дома: пил не закусывая, как обычно пьют немцы, и слушал с закрытыми глазами Вагнера и Шопена.
– Господин гауптман болен? – спросила однажды Таня у денщика, встретившись с ним на кухне в один из таких музыкальных вечеров.
– Почему болен? Господин гауптман отдыхает, – ответил солдат. – Отпуск – понимаешь?
– Весело он его проводит, – сказала Таня.
– Кто как умеет, – пожал плечами солдат. – Ты знаешь, что делает господин гауптман на фронте? Он летает. «Штука»[12] – знаешь, что это такое? «Юнкерс-87», вот так. – Он поднял руку и пальцем прочертил сверху вниз нечто вроде большого рыболовного крючка, очень похоже изобразив при этом свист падающей бомбы.
Неизвестно, доложил ли денщик об интересе, проявленном к особе господина гауптмана хозяйкой квартиры, или это было совпадение, но на другой день, в воскресенье, денщик постучал к ней в комнату.
– Ты должна явиться к господину гауптману, – сказал он, – немедленно. Раз-два!
– Скажите господину гауптману, что я не солдат, которому он может приказывать, – покраснев от злости, ответила Таня. – Так и скажите!
Денщик пожал плечами и вышел. Из столовой послышался вопль постояльца, яростный и нечленораздельный, – у Тани ослабли коленки и пересохло во рту от страха. Она едва успела протянуть руку к пальто, чтобы бежать без оглядки, как денщик с побагровевшим лицом – видно, ему досталось – ворвался в комнату, схватил Таню в охапку и поволок по коридору. Она попыталась укусить его, но суконный рукав оказался слишком плотным.