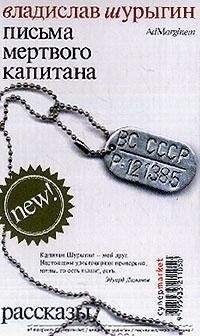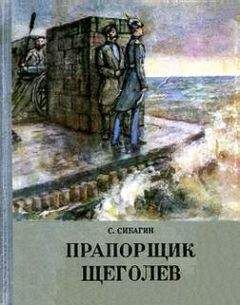Владислав Шурыгин - Зенитная цитадель. «Не тронь меня!»
Мошенский подсел к столу, обмакнул в чернильницу старенькую ученическую ручку с пером-«скелетиком». Быстрым четким почерком написал… (Разве знал, что пишет последнюю в своей жизни открытку…)
«Здравствуй, родная! Я жив и здоров. Пока все идет нормально. Жаль, что нет совершенно свободной минуты. От тебя жду писем. Привет Ане. Целую крепко. Твой Сергей».
Он поднес открытку к лицу, нетерпеливо подул на чернила… Пора было идти на верхнюю палубу. Пауза между летами затягивалась, но сигнал тревоги не должен застать командира в каюте. Он жестко требовал от всех и приучил себя всегда находиться днем на верхней палубе и отлучаться лишь в случае крайней необходимости.
Мошенский заспешил наверх.
…Закат сплавил море и небо. Мягко высвечивались стволы зенитных орудий и пулеметов, леера, неподвижные группки людей на мостике и на палубе плавбатареи. Червонным золотом горели стекла иллюминаторов, а стальные борта, уходящие в глубь воды, виделись до самого дна, до темных водорослей. Корпус плавбатареи и впрямь казался частью суши, диковинным островом.
Неподалеку от орудий растягивал мехи баяна старшина Афанасьев. Негромкий голос вел задумчивую, протяжную песню…
Комендор Воронцов поглядел в сторону поющих:
— Никак Лешка Рютин выводить…
— Хорошо поет… — согласился Здоровцев. Песня располагала к мечтам, к раздумью, и Семен Здоровцев, глядя на воду, вздохнул:
— Бачишь, Леша, кефаль гуляет…
— Вижу, — ответил Воронцов, и глаза его азартно засветились: — Порыбалить бы, Трофимыч! После ужина подойду к командиру. Помню, говорил: собьете самолет — разрешу рыбалить. А мы только надысь «юнкерса» сшибли, а значит, полагается командиру свое слово выполнять. Рыбалка должна быть хорошей.
— С крючка-то? Ты бы, Леш, хоть разок с сетями в море сходил! Окончится война, приезжай ко мне. Такую рыбалку увидишь, что назад уезжать не захочешь…
Низко над водой носились чайки. Их жалобный, тревожащий душу крик еще острее напоминал Здоровцеву счастливые довоенные времена, когда был он со своей бригадой в море, ставил сети, ловил рыбу для совхоза, слыл удачливым, ходил в передовых. Шутили, что слово заветное знает, потому, дескать, и рыбка к нему в сети сама идет.
Воронцов мечтательно отозвался:
— Приехать в гости — я с удовольствием. Я, знаешь, всегда хотел незнакомые края поглядеть, да не успел вот… И ты ко мне приезжай, Трофимыч. Рыбалка у нас особенная. И народ смоленский особенный. У нас мужики… Ну как бы тебе сказать какие…
— Да как ты небось — какие ж еще! — засмеялся Здоровцев.
— Ну да, как я. Это, конечно, — серьезно согласился Воронцов. Какая-то мысль не давала ему покоя, и он упорно думал, сводя к переносью темные брови. — Мужики у нас на ногу легкие. Нет, не то. Веселые! Тоже не то… Фу-ты! Ну, заводные такие, понимаешь?
Здоровцев слушал не перебивая.
— Вот, к примеру, семейный мужик. Изба, баба, дети, хозяйство. Работает в колхозе от зари до зари. Серьезный по обличию своему человек. А случись пойти с ним рыбалить или гулять в одной избе, ну прямо изменяется человек. Веселый. Легкий. Ну как пацан становится. Вспомнил! У нас каждый мужик на отдыхе — резвый, что пацан. И тогда над ним могут бабы верх держать, когда он выпивши маленько. У нас мужик всему хозяин и в избе своей командир. На Украине, слыхал, по-другому…
— По-другому, — согласился Здоровцев. — Там жинка фигура первая, но это иногда и неплохо, Леша…
Здоровцев неожиданно умолк. Лицо стало добрым и грустным. Он точно вслушивался в себя, вспоминал что-то очень близкое сердцу…
Старшина 1-й статьи Михаил Бойченко находился на мостике, когда Кийко доложил с палубы о том, что ужин готов.
— Добро! — ответил Бойченко. Было около восьми часов вечера. Теперь Бойченко, как дежурный по плавбатарее, должен идти к командиру спросить разрешения команде ужинать.
— Что в воздухе? — окликнул на всякий случай своих сигнальщиков. Те тотчас же отозвались:
— Воздух чист!
Но едва Бойченко подошел к двери боевой рубки — командир находился в рубке, — как с палубы раздался громкий голос старшины Лебедева:
— Самолеты противника с кормы! На нас!
Старшина Лебедев не зря славился орлиным зрением: он и на этот раз вовремя заметил заходящие в атаку «юнкерсы». Не дожидаясь команды, орудие Лебедева открыло огонь. Его поддержал кормовой автомат Ивана Филатова и пулемет старшины Василия Андреева.
Еще гудела сирена, но уже все орудия и пулеметы плавбатареи вели огонь по атакующим самолетам. (Расчеты находились на палубе, и поэтому им потребовались какие-то секунды, чтобы открыть огонь.)
Головной «юнкерс» не выдержал — отвалил в сторону. За ним второй… То был какой-то необычный, странный налет… «Юнкерсы» шли со стороны 35-й батареи. Встречаемые огнем, один за другим сворачивали с боевого курса и как бы обтекали «Квадрат» с обоих бортов. Похоже, старались отвлечь внимание, «растянуть» огонь. Однако для повторной атаки ушедшие машины уже не возвращались и бомб на бухту и плавбатарею больше не сбрасывали…
Это было тотчас замечено, и Мошенский приказал сосредоточить огонь только по атакующим «юнкерсам».
Остались последние два «юнкерса». Один отвернул, а другой, круто снижаясь, продолжал мчаться на плавбатарею. Мошенский почувствовал что-то необычное в поведении фашистского летчика, приказал поставить заградительную завесу. Но фашистский летчик, снижаясь, вошел в зону сплошных разрывов…
Находившийся на палубе радист Иван Спицын много лет спустя вспоминал: «В этом последнем «юнкерсе» сидел, очевидно, какой-то немецкий ас. Он любой ценой решил прорваться к плавбатарее. Зенитчики наши вели такой плотный огонь, что сквозь него не могло прорваться ничто живое. Давно я не видел такой плотности огня. «Юнкерс» зашатался, почувствовал себя валко как-то… За «юнкерсом» потянулся дым. Я думал, он свалится, но он выровнялся и продолжал мчаться на нас. Я кинулся к боевой рубке, чтобы крикнуть командиру, что этот немец, кажется, возьмет нас на таран…»
Дверь боевой рубки была открыта, и стоявший возле нас доктор Язвинский тоже видел, как стремительно снижался дымящийся «юнкерс».
За свою атаку он поплатился, но, будучи подбитым, все же успел сбросить бомбы, которые с возрастающей скоростью устремились на батарею, и никто, ничто уже не могло прервать их падение.
Старшина Василий Андреев — человек, ранее не знавший страха, — вдруг отпрянул от пулемета и стал пятиться спиной к боевой рубке… Руки его со сжатыми перед собой кулаками все еще словно держали рукояти пулемета, продолжали вести огонь…
За сотни проведенных боев глаз у зенитчиков был наметан. Сердца у людей болезненно сжались. Рассказывают, что Мошенский негромко сказал находившемуся рядом с ним в боевой рубке Середе всего одно слово: «Наши…»
Встал, вздыбился всплеск-взрыв. Затем второй, уже метрах в тридцати от кормы…
— Андреев, ложись! — крикнул пулеметчику Язвинский.
Но тот не слышал. Продолжал, сжав кулаки, пятиться и «стрелять» по падающим бомбам. До конца. До того самого страшного мига, когда третья бомба попала в левый борт плавбатареи, а четвертая разорвалась в нескольких метрах, в воде, рядом с баком. Дважды блеснуло пламя. Сотни раскаленных зазубренных осколков пронзили все живое вокруг…
С палубы плавбатареи были буквально сметены расчеты второго и четвертого 76-миллиметровых орудий старшин Алексея Лебедева и Николая Алексеева. Погибли зенитчики: Семен Здоровцев, Алексей Воронцов, Александр Кузнецов, Николай Пивоваров, Иван Иванов, Леонид Осокин, Алексей Иванов, Степан Рябинка, Израиль Вейде, Константин Ферапонтов…
Погиб пулеметчик старшина 2-й статьи Василии Андреев.
Погиб дальномерщик Владимир Гуммель. Без признаков жизни лежали на палубе краснофлотцы Капитон Сихарулидзе, Борис Кротов, Борис Полищук, Николай Герусов…
Уцелевшие плавбатарейцы не сразу поняли, что произошло, кто жив, а кто мертв. Дым застилал палубу. Слышно было, как длинными очередями строчил носовой пулемет Павла Головатюка и Устима Оноприйчука. Если они, обычно выдержанные бойцы, не берегли, не экономили патроны, значит, было отчего.
Когда стихла стрельба, моряки услышали стоны и крики разметанных взрывом товарищей. Из оцепенения их вывел чей-то резкий голос:
— Пожар в кормовом артпогребе! Воду! Дайте воду!
Этот призыв поднял с палубы электриков Николая Кожевникова и Михаила Ревина, моториста Петра Шилова. Без слов поняли друг друга. Бежать было недалеко, вскоре готовая на случай пожара помпа буквально с одного касания моториста Шилова завелась, заработала. Туго напрягся, наполнился водой шедший на верхнюю палубу брезентовый шланг. Однако тут же выяснилось — старания моряков были напрасными: прикрепленные к леерным стойкам брезентовые шланги оказались посеченными осколками и до кормы вода не доходила…