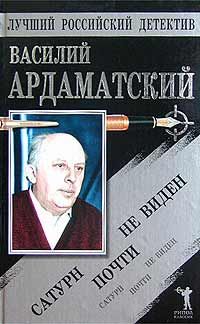Всеволод Крестовский - Очерки кавалерийской жизни
— Фу!.. Слава Тебе, Господи! Наконец-то освежать начинает! — обнажив голову, проговорил Апроня с облегченным полным вздохом, который просто с наслаждением вырвался на волю из его широкой, богатырской груди.
— Ну-тка, ребята, кто кого перешумит — вы ли бурю или она вас? — весело вызывающим тоном обратился майор к песенникам — и в ту же минуту на речитативный вопрос голосистого запевалы, который допытывал «солдатушек-ребятушек», где ж, мол, ваши деды, — дружный хор молодецких голосов вместе с громом и бурей отгрянул ему:
Наши деды — старые победы!
Вот где наши деды!
Когда под утро мы пришли в Каплицы, на нас буквально нитки сухой не было. Вода хлюпала в высоких сапогах, и вся одежда, начиная с кителя и до сорочки, была грузно отягощена впитанною в нее дождевою влагою.
12. Последняя встреча
Недели две спустя я проходил в базарный день по гродненской торговой площади, направляясь в клуб обедать. Вдруг чувствую из-за плеча, что кто-то опережает меня, почти касаясь моего локтя, и слышу чей-то знакомый хриплый и ласковый голос:
— Зждрастуйте вам!.. Зждрастуйте вам, гасшпидин сперучник! Когхда зж ви не взжнали мине?
Оборачиваюсь, гляжу: ба! достопочтенный реб Гершко Гершуна, тебя ли это я вижу?!
— Я сшами, я сшами, в моем властней персону!.. Н-ну, и как зже-ж вас Бог милуе?
— Ничего, слава Богу, скверно.
— Ой, ф-фэ! Сшто ви гаворитю!
— Ну, а тебя как?
— Мине? Хвала Богху, мине отчин даволна гхарасшо! И Богх мине балшово радосштю пайсшлал… Когхда зж ви не зжнаитю? Я маво дцурке, маво Бельке, замуж видаю!
— Ой ли?.. За кого же? За Орел Бублика?
— Ну, то так есть! За Орел Бублик! За он сшами! А ви скудова зжнатию?!..
— Слухом земля полнится.
— Так, так, сшлюгхом по зжемлю… Ну, и гхаросший партый падайсшол. И я для тего на гхород периегхал, зжеби пакупиц подарункев и розмайтых перипасов на весшелью.[22]
— И что же, жених-то богатый?
— Уй, який бегхаты! Уй-уй!.. Дай Богх, каб я бил таки зждарови, як он бегхаты! С гхаросшаго дому, бо его папыньке сшваво заездна корчма мае на Камионку, и гхаросши гандель крутить! Там не то сшто ув насш на Ильяново: там другий интерес!
— Ну, от души тебя поздравляю!.. Кланяйся Велле и пожелай ей от меня всякого счастья!
— Ой, благодару вам! Благодару вам, гасшпидин сперучник, на васшем сшлове ласкавем! — забормотал реб Гершко со своими обычными многочисленными поклонами, и мы расстались.
* * *Прошло четыре года. Отряд наш был выведен на маневры по виленской дороге верст за пятьдесят от Гродны. На второй или на третий день маневров авангард нашей стороны, наступая на противника, занял местечко Каменку, где и велено было ему расположиться на дневку. Наш эскадрон входил в состав авангарда, и потому вполне понятно, что мы, в лице своего разъезда, первыми вступив в местечко, сейчас же отмежевали себе, так сказать, львиную долю, то есть заняли лучшее место на площади под бивуак эскадрона и лучшую корчму под постой своих офицеров. Корчма эта стояла на той же площади.
Освободясь от пыли, пота и грязи, которыми в изобилии вознаграждены мы были за горячие движения этого дня, умывшись холодною водою и освежив на себе белье, мы с наслаждением растянулись вповалку на ворохе душистого сена в ожидании чая и закуски. Один только Апроня все еще не угомонился, возясь и хлопоча о чем-то на дворе около нашей подводы, где он отдавал какие-то распоряжения своему взводному, пушил фурмана, приказывал что-то денщикам и вел о чем-то переговоры с хозяином корчмы, с кузнецом и с местным фактором.
Но наконец и он ввалился в комнату с довольным и размаянным видом человека, который хотя и чувствует себя очень усталым, но в то же время удовлетворен сознанием, что он исполнил все, к чему был призван, все, что от него требовалось и что ему положено, — одним словом, рассудил, разрядил, внушил, обругал кого след, распорядился, всем озаботился и может теперь с чистою совестью опочить на лаврах, то бишь… на сене.
— А знаете, господа, ведь здесь наша старая знакомая есть? — объявил он, скидывая с себя всю амуницию вместе с запыленным кителем.
— Кто такая? — лениво повернул я к нему мою голову.
— Мадам Бублик.
— Что за Бублик такой? — отозвался майор. — Никакого Бублика не знаю.
— Господи Боже мой, да Велля! Помните Веллю Гершуна — нашу Юдифь Ильяновскую?
— Ба!.. Велля?.. Как не помнить!.. Да какими эк она здесь судьбами?
— Замуж за гасшпидин Бублик, — передразнивая жидовский акцент, пояснил майору Анроня. — И посшмотрите спижалуйста, сшто за гхаросши мадам з него вийшла! Ой-вай!
Любопытство превозмогло усталость. Я не мог отказать себе в удовольствии повидаться с милою Веллей, в прошлый роман которой благодаря известной уже случайности я был посвящен более всех моих товарищей. Я хотел поскорее взглянуть на старую свою знакомку, на эту чудную библейскую красавицу, образ которой если и рисовался изредка моему воображению, то не иначе как в той поэтической обстановке, в какой я помню ее в лесу, в два ночные момента — на Ивана Купалу и под сухой грозою.
Но, Боже мой, что же это такое?
Я решительно не узнал ее с первого взгляда. Где же Велля? Где она — эта страстно-очерченная, своеобразно-грациозная, гибкая и сильная фигура баядерки с головой и взором Юдифи!..
Предо мной стояла раздобревшая и уже несколько обрюзглая, апатичная жидовка в парике, из-под которого болтались в ушах длинные серебряные сережки с фальшивыми камнями, а над париком возвышался скомканный чепец с бантами из замасленных лент. Поблеклое лицо ее, покрытое какими-то желтыми пятнами и веснушками, не сохранило даже и тени прежней красоты и не выражало ничего, кроме апатии; большие же глаза, если и загорались порою, то уже не огнем поэтической страсти, а только беспокойством за барыш, только суетно-мелочною жадностью хозяйки-скопидомки. В четыре года супружества она умудрилась наплодить пять человек детей, из которых последние были двойни. Бог Авраама, Исаака и Иакова, очевидно, благословил ее плодородием праматери Лии. Супруг ее — гасшпидин Орел Бублик, находившийся под деспотическим началом своего отца, предстал пред нами в образе рыженького, тщедушного еврейчика, который всем смыслом фигурки своей являл полнейшее ничтожество и был замечателен только тем, что слыл между местным еврейским населением за человека очень набожного.
Велля — чудная, поэтическая Велля — в грязном, пахучем образе обыкновенной «мадам», обыкновенной жидовки, каких вы тысячами встречаете по городам и местечкам Западного края, — кто из нас мог бы четыре года назад вообразить себе подобную метаморфозу!..
«Просто оскорбительно!» — вспомнилось мне при этом выражение юнкера Ножина.
IV. Облава на уток
Рано утром пан Буткевич разбудил меня. Самый сладкий сон смежал мои веки, когда под окном раздался энергический стук в раму и показалась курчавая голова пана с засматривающим, улыбающимся лицом и с плотно приплюснутым к стеклу мясистым носом, отчего на самом кончике этого носа образовалось преуморительное плоское белое пятнышко в гривенник величиною.
— А ну-те бо! Вставайте, коли хочете ехать! — раздался из-за окна голос пана Буткевича. — Божьи птахи вже давно спявают, и качки[23] ждут нас, а вы усе еще спочиваете! Вставайте-ко, вставайте!
Я живо вскочил с теплой постели и растворил окошко. Свежий утренний холодок сразу обвеял мне все лицо и отозвался бодрящей дрожью в теле.
Солнце только еще подымалось, и низкие, косые лучи его в легком золотисто-розоватом тумане пробивались между стволами и просветами деревьев, яркими косяками ложились по росистой лужайке вперемежку с длинною тенью древесных стволов и бесчисленными блестками дробились в жемчужных каплях росы, обильно покрывавшей траву, ветви калины, листья кукурузы и яркие махровые шапки мака, которыми сплошь были испещрены клумбы и грядки запущенного палисадника. Птицы весело, громко и оживленно щебетали, перепархивая и путаясь в густых ветвях высоких раскидистых деревьев. Пискливые утята, то и дело шлепаясь желтоватым брюшком, на нетвердых еще лапках вперевалку пробирались следом за утицей по густой траве к небольшой сажалке. Гуси гоготали и пронзительно звонко вскрикивали, красивыми взмахами расправляя крылья. Длинноногий аист только что отлетел на болото за добычей. Уланы вели коней на водопой, то мелькая с ними на солнце, то заслоняясь тенью между густою зеленью. Бодрые кони шли тротом, резво играли и фыркали. Утро вставало светлое, свежее, бодрое. Прелесть, что за утро!
— Э, дал Бог погоду! — заметил пан Буткевич. — Надо так думать, добре полеванье[24] задастся, але ж и жарко будет, ой как жарко!