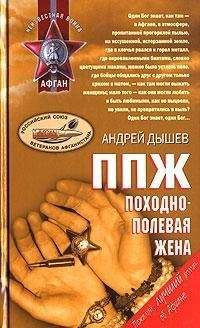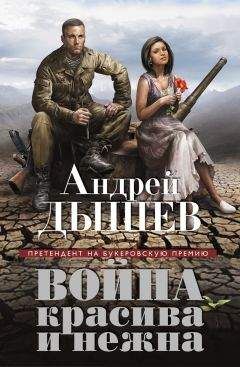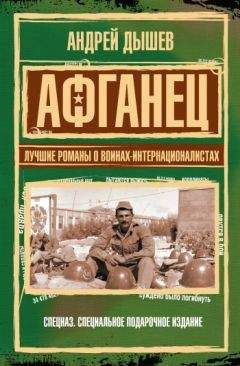Андрей Дышев - «Двухсотый»
Заместитель Грызача Селиванов, без пяти минут дембель, надел парадный китель. У всех парадки хранились в полковой каптерке, а Селиванов привез свою сюда. Долгими часами, тоскуя о Союзе в прокаленном желудке боевой машины, он вышивал на рукавах тончайшей медной проволокой дубовые листья и звездочки. Многое еще было недоделано, еще не удалось выторговать у полковых прапорщиков серебристый аксельбант и золотистые рифленые буковки СА. Даже левый погон не был пришит до конца. Но зато орден Красной Звезды уже сидел на своем законном месте, играя кровавыми бликами. Чтобы ботинки блестели, он смазал их соляркой, а большое прожженное пятно на брюках прикрыл «калашом»; оружие Селиванов держал в опущенной руке, за цевье, и делал это столь же расслабленно и естественно, как если бы это был портфель. Сержанту в голову не приходило, что идти на прием к врачу с оружием — по крайней мере нелепо; ему вообще ничего не приходило в голову, кроме одного необузданного желания посмотреть вблизи на живую девушку.
Его земляк Кацапов, тоже готовящийся осенью на дембель, обзавидовался, когда увидел, как преобразился Селиванов, и, желая произвести на врачиху еще больший эффект, вооружился тяжеленным пулеметом Калашникова с пристегнутой к нему коробкой и торчащей оттуда лентой. Молодые бойцы, подражая дембелям, тоже вооружились. Какой-то недотепа по фамилии Удовиченко (весенний призыв) напялил раскладку, карманы которой были набиты магазинами, сигнальными патронами и гранатами.
— На что жалуетесь? — спросила Гуля Селиванова, уже справившись с неуверенностью и чувствуя себя настоящим врачом. — Почему вы молчите? Боец, вы в рот воды набрали?
У Селиванова от волнения язык онемел. Пялясь на Гулю, он теребил пуговицу на кителе и прислушивался к странному огненному чувству: ему казалось, что давно затянувшаяся рана на боку вдруг разорвалась по швам, из нее вырвалось пламя и стало стремительно распространяться на все тело. Вот уже горит грудь и низ живота, вот уже обожгло пах, ошпарило член, и он, собака, раздувается, твердеет, упирается тупой головкой в жесткий шов ширинки.
— Мы так и будем в молчанку играть?
Пот выступил на лбу сержанта. От ударов его сердца вздрагивал стол. Второй человек, вторая живая субстанция, которая скрытно сидела в нем, вдруг поперла наружу. Селиванов уж и забыл про нее, эту вторую, параллельную плоть. Он привык осознавать себя бойцом, который стреляет, бегает, кричит на «сынов», материт духов, получает боеприпасы, расставляет посты, добывает трофеи — в общем, является деталью большого военного механизма. И уж почти совсем забыл, как в деревне его называли соседские старухи, что он молодец, плядун, который куем груши околачивает, он ёпарь, хахаль, гроза девок, жеребец; и вот этот второй, которого сельчане характеризовали такими словечками, вдруг ожил и начал заявлять о себе… Селиванов густо покраснел, ему стало тяжело дышать. Ему казалось, что у него между ног выросла третья нога, тугая, звенящая, нахальная и непослушная. А ну как сейчас врачиха прикажет ему встать, да начнет оттягивать Селиванову веки, да простукивать ему грудь? Обязательно ведь заметит его позор, да не просто заметит, а упрется в него, налетит, как на сосновый ствол, — вот стыдоба будет!
Он поставил между ног автомат, потом закинул ногу на ногу — не помогло, слишком поздно, момент был упущен. Этот отросток, придаток, единственная деталь мужского организма, живущая сама по себе и не зависящая от воли хозяина, уже заняла стартовую позицию и устремила свой наконечник к зениту.
— Знаете что, товарищ сержант, у меня нет времени переглядываться с вами…
Он невнятно пробормотал, что уже ничего не болит, и, шурупом повернувшись на табурете, выскочил наружу, будто его взрывной волной смело. «Ну как она? — обступили его бойцы. — Раздеваться заставляет?» — «Ой, дура, опилками набитая! — отбрехался Селиванов. — И стра-а-а-ашная, как атомная бомба!»
Очередь быстро рассосалась. Кацапов тоже пулей вылетел из «офицерского общежития», а Удовиченко, как и остальные «сыны», вообще не рискнул обратиться за медицинской помощью. Прием закончился. Шильцов вынес вон солярную коптилку, от которой у Гули щипало глаза и разболелась голова, а вместо нее привесил к потолку два фонарика. Стало светло и уютно. Гуля приподняла край изжеванного матраца и увидела под ним две противотанковые мины. Некоторое время стояла над ними и раздумывала, удобны ли мины в качестве подголовного валика.
«А вот эти взрывы, — спросила она Шильцова, — всю ночь будут?»
Шильцов из двух гнутых гвоздей сделал крючок и скобу, забил булыжником, а потом проверил, надежно ли закрывается. Запор чисто символический, сорвать крючок можно одним легким движением руки, но Гуле так будет спокойнее. А снаружи перед дверью поставил часового. «Если что, дашь очередь вверх, — сказал он солдату. — Понял?» — «Понял», — ответил Ниязов, хотя совершенно не понял, что означает «если что».
В смоляном мраке ночи залипло все. Ни звезд, ни луны. «Бум! Бум! Бум!!» — раздавались ритмичные хлопки беспокоящего огня. Ствол миномета потеплел, и заряжающий отогревал на нем озябшие пальцы. «Слышь, покурить оставь!» — попросил он своего напарника. Курили по очереди, пригнув голову к самому дну окопа. Мины со свистом улетали в темноту, натыкались на сухую землю и лопались, раскидывая во все стороны железные болванки и камни. В перерывах между залпами стояла студеная тишина. Ниязов устал стоять на посту и присел на мятую пустую бочку, из которой пахло мочой. Гуля присела под фонариком на корточки и поймала свое отражение в маленькой пудренице. «На кого я похожа!» Под глазами синяки, кожа бледная, на кончике носа прыщик. «Хорошо, что Валера меня не видит сейчас». Она расчесалась, закрепила пучок волос на затылке. Сняла куртку, повесила ее на гвоздь. Расшнуровала кроссовки, скинула их без помощи рук и устало вытянулась на нарах. Снаружи доносились методичные хлопки разрывов. Где-то рядом цокали камешки, иногда доносилось тихое бормотание. Бух! — прогремел разрыв мины. Похоже на отдаленные раскаты грома. Гуля вспомнила, как в детстве любила сидеть без света в комнате и смотреть на грозу. В свете фонарей сверкали косые полосы ливня, лужи кипели от шквалов ветра, листья деревьев, мокрые и блестящие, будто покрытые лаком, трепыхались на ветру. Дождь барабанил по подоконнику, ручьями стекал по стеклу. Вспышки молний на мгновение освещали ночную улицу и стоящие напротив дома — все это выглядело странно, непривычно, будто было вылеплено из черной смолы.
Бух! — снова разрыв.
— Да заколебали они своим пуканьем! — в сердцах произнес Шильцов и второй раз ударился темечком о железный потолок бронетранспортера. Он примерял новенькие джинсы, а сделать это в тесной утробе бронетранспортера, где не выпрямишься во весь рост, было непросто. Он то ложился на спину, задирая ноги кверху и одновременно натягивая джинсы, то, согнувшись в три погибели, балансировал на одной ноге. Пичуга, захмелевший от самогона, окуривал себя вонючим сигаретным дымом и сквозь его матовую завесу следил на старлеем.
— Малы, — выдал он вердикт.
— Какое малы? — рассердился Шильцов и в конце концов лег на бок. Извиваясь, как удав, он подтянул джинсы за петли для ремня и вжикнул «молнией». — Меньше уже не бывает… Меньше — это только шорты для младенцев… — Он встал на колени и похлопал себя по тощим ягодицам. — Сидят, как влитые… Ну что, Пичуга, ништяк?
— Ништяк, — подтвердил Пичуга. — Батник примерь!
Шильцов накупил себе шмоток в придорожном дукане, мимо которого проехала потрепанная расстрелом колонна БАПО. Дукан был одинокий, непонятно для кого предназначенный — вокруг серая степь и пыль. Похожий на избушку на курьих ножках, он стоял на обочине, и на нем, словно игрушки на елке, висели вешалки со шмотками. Ветер раскачивал их, рукава и штанины отмахивались от пыли, поднятой боевой техникой. Шильцов спрыгнул с брони на ходу, подошел к дукану, заглянул в окошечко, в котором, как птица в скворечнике, сидел пожилой торговец с ввалившимся беззубым ртом. Шильцов снял несколько пар джинсов и черный, просвечивающийся насквозь батник, зажал товар под мышкой и сунул дуканщику лотерейный билет, который когда-то давно Шильцову дали в книжном магазине в нагрузку к тому Астафьева. Билет, разумеется, был без выигрыша и ничего собой не представлял, кроме как полоску бумажки с замысловатыми фигурками, кренделями и надписью: «Банк СССР. 5000 рублей».
Привыкшие к еженощному беспокоящему огню как к ударам собственных сердец, Грызач и Хорошко обмякали на краю бражной ямы.
— За женщин! — предложил Грызач, но прапорщик его уже не слышал. Начальник гарнизона зачерпнул со дна самые густые и ядреные осадки, по консистенции напоминающие овсяный кисель, выпил и понял, что обстоятельства сильнее его.