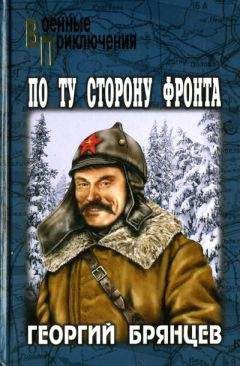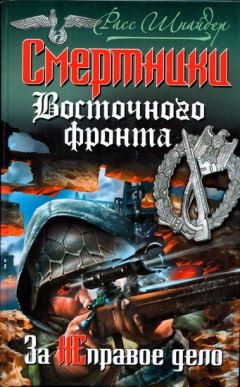Северина Шмаглевская - Невиновные в Нюрнберге
Огромная старинная кровать. Мягкая подушка. Множество мелочей, призванных самим своим существованием делать мою жизнь безопасной и удобной, перечеркивать правду о вонючих койках, о крысах, которые нападали на мертвых и на живых.
Может быть, сегодня я наконец буду давать показания. Как надо говорить? Как передать запах смерти, вонь нужды, омерзительность Durchfall’a? Как рассказать, какими способами уничтожили такое невероятное число убитых в одном лагере? Что это значит — штабеля узников? Это нереально. Как передать тошнотворную слабость, испытываемую при виде убивания человека, который мог жить еще долгие годы? Нарушены законы существования — мы стоим на морозе, среди метели, мысли становятся все короче, воображение ржавеет, мы на краю пропасти, через мгновение каждая из нас может оказаться втоптанной в грязь, превращенной в туман. Девятнадцатилетние немецкие девушки, одетые в мундиры СС, умеют одним окриком, одним ударом хлыста рассечь туман, который нам казался жизнью, ароматом яблок, цветами подсолнухов.
Рассказать об этом Трибуналу. Сделать это так, чтобы остановить лавину. Это невыполнимо: то, что было сутью концлагеря, невозможно выразить словами.
В помещении для свидетелей тишина. Мои собственные вздохи удручают меня. Время остановилось на первой минуте: полное ощущение, что сломались часы. Среди этих белых стен в моих висках бьется боль, появляется уверенность в собственном бессилии.
В середине дня заглядывает часовой, солдат из Канады, тот самый, что дежурил вчера. Он обращается ко мне непринужденно, словно мы старые школьные друзья.
— Да что вы! — машет он рукой. — Наверняка еще ни сегодня, ни завтра польских свидетелей допрашивать не будут. Может, через недельку, а может, и никогда! Что вы! У них там дела поважнее. Тут в Трибунале такое делается, что в голове не помещается.
Он протянул мне руку с блестящей пачкой сигарет. Коричневый верблюд на ней такого теплого цвета, что я бы не удивилась, увидев, что он жует жвачку.
— «Кэмел», они совсем легкие, — говорит он.
— Я не курю.
— Вы знаете, нужно все попробовать, — настаивает он добродушно. — В этом и состоит жизнь.
Я взяла сигарету, понюхала ее, развлекаясь, повертела в пальцах.
Сладковатый аромат табака нравился мне гораздо больше, чем запах гари.
— Когда вы дадите показания, вам наверняка, как свидетелю, разрешат находиться в зале заседаний. С пропуском, разумеется. Пропуск этот вам все время придется держать в руках, ведь для того, чтобы войти в зал, его надо предъявлять черт знает сколько раз. У каждой двери, на каждой лестнице — янки проверяют, кто идет.
Я снова понюхала сигарету. Улыбнулась. Поляк из Канады, который, скорей всего, был моим ровесником, казался мне наивным ребенком. Большой упитанный ребенок стоял возле меня сосредоточенный и серьезный.
— Я уверена, что, доведись вам пережить эту войну в Европе, вы поставили бы еще один контрольный пост у входа в зал заседаний. Пусть янки проверяют.
Он прицелился в меня пальцем.
— Святые слова! Ни убавить, ни прибавить. Но тут и пятьдесят контрольных постов не помогут. У них тут способы, которые нам и не снились.
Его васильковые глаза блестели.
Очевидно, ему хотелось произвести на меня впечатление своей осведомленностью.
Я сидела на низеньком стульчике и снизу смотрела на толстощекого, возбужденного разговором солдата из-за океана.
— Проверять-то они проверяют, — сказал он. — Ни я и никто из нас не сможет войти в зал без пропуска. Я вам точно говорю.
— Ну да, — согласилась я, — везде стоит охрана. И днем, и ночью.
— А жена генерала Йодля все-таки туда пролезла, — сообщил он с радостью хорошо осведомленного человека.
— Вы шутите! Ей удалось проникнуть сюда? В здание Международного военного трибунала?
— Если бы только проникнуть! Фрау Йодль работала здесь, да будет вам известно. Работала и получала зарплату за свою энергичную помощь.
— Невозможно!
— Это факт! Она была секретаршей одного из адвокатов, защитника ее мужа.
Я вытерла лоб.
— Бросьте! Это же сказки.
— Да я вам говорю: адвокат Экснер, защитник генерала Йодля, сам выбрал себе секретаршу. Ясное дело, кто-то должен был отбирать для него документы из всей кипы бумажек. А вы небось догадываетесь, до чего интересные бумажки тут встречаются? Например, знаменитый приказ об убийстве советских военнопленных, подлинник с собственноручной подписью генерала Йодля.
Для чего ты говоришь мне это? — думала я, глядя на розовощекого солдата с васильковыми глазами. Если через все сита проверок сюда пролезла фрау Йодль и в качестве сотрудника Трибунала рылась в этих горах фотокопий, записок, рапортов, скоросшивателей, то кому нужны наши показания?
Парень в американском мундире следил за впечатлением, которое произвели его слова.
— Я вам говорю, — продолжал он. — Я вам говорю! Куда легче подписать акт о капитуляции, чем на самом деле капитулировать. Они отнюдь не капитулировали. Отнюдь!
Мне стало зябко. Слишком долго я жду в комнате для свидетелей, слишком быстро растут во мне сомнения.
— И кто в конце концов опознал фрау Йодль? — спрашиваю я, стараясь заглушить усиливающуюся тревогу.
Гордостью светятся глаза часового, и это помогает мне успокоиться. Именно так смотрят победители.
— Справились. Приехал сюда из США новый комендант Нюрнберга, сторонник политической линии Рузвельта, и с ходу ввел свои порядки. Первым делом генерал Уотсон велел отобрать у фрау Йодль удостоверение сотрудника Трибунала. Но это еще не все.
Глаза часового блестят, будто он рассказывает ковбойский фильм. А я, вместо того чтобы окончательно успокоиться, чувствую, как меня начинает бить дрожь.
Напряжение отпускает лишь на минуту, когда куранты начинают мелодично выбивать: два-два… три-три… четыре-четыре… пять-пять… шесть-шесть… и так до одиннадцати.
Солдат продолжает свой рассказ:
— Уволили еще двух других немцев — сотрудников Трибунала, поскольку они были членами гитлеровской партии. Эрна Меркель исполняла тут обязанности секретаря у адвоката Бабеля, который защищает организацию СС. А секретарем защитника Риббентропа был доктор Шулеман, он оказался не только членом гитлеровской партии, но и шарфюрером гитлерюгенда.
Он прислонился к колонне. Я молчала, внимательно глядя на него.
Ну и что? — выдавила я наконец из себя. — Теперь мы можем спать спокойно? Мы — вся Европа? Весь мир?
На минуту наступила тишина — словно мы вовсе перестали дышать. Потом солдат оглянулся и зашептал, понизив голос:
— Но генерал Уотсон успел еще кое-что сделать. Он снял начальника тюрьмы, той самой, где содержатся подсудимые. За железными стенками, в одиночных камерах, день и ночь под наблюдением, — казалось, их хорошо стерегут. И знаете что?
Он щелкнул пальцами и рассмеялся, как мальчишка.
— Начальник нюрнбергской тюрьмы, почтенный господин, работал на этой должности тридцать лет. И, разумеется, состоял в гитлеровской партии. Представьте только, он знал все установленные тут сигнальные системы, секретные механизмы, которые, если нажать на определенную кнопку, раздвигают одни решетки и перекрывают другие. Это могло быть большим сюрпризом для людей, находящихся во вверенном начальнику здании. Он знал потайные ходы, запасные коридоры. Эта гитлеровская тюрьма просто игрушка! Ко генерал Уотсон, как только приехал, вырвал игрушку из рук эсэсовца. Хотя это кое-кому не понравилось.
Зачем ты мне это говоришь? — снова подумала я. Зачем ты будишь во мне страх, от которого я почти отделалась?
— Этот гитлеровец, начальник тюрьмы, мог в один прекрасный день, — говорит, изумленно вскидывая брови, часовой, — решить, что Герингу, Гессу, Риббентропу, Гансу Франку и прочим убийцам пора с почестями выйти на свободу. Правда?
Я сжала зубы.
— На пустые скамьи он посадил бы совсем других. Но, знаете, генерал Уотсон мигом убрал его.
Мысленно повторяю: зачем ты мне это говоришь?
— К сожалению, генерала Уотсона вскоре отозвали в Соединенные Штаты. Он только успел перед отъездом ввести новые правила и точные предписания, касающиеся содержания заключенных. И добился тщательной проверки тех, кто получает пропуск в зал. Или возьмем, например, корреспондентов. Ничего не скажу, работают день и ночь. Но разве нужен им этот процесс? Они и без него знают, что написать. Вот вчера вечером я видел у одного на столе уже отпечатанный на машинке материал. Да и название интересное: «Польский день в Нюрнберге».
Я громко рассмеялась. В комнате для свидетелей смех мой отскочил от стен странным эхом. Раздался какой-то ненужный шум.
— Это журналист из Вены? — спросила я, почти не сомневаясь. — Тот, от которого за версту несет лавандой?