Евгений Астахов - Наш старый добрый двор
— Как ты там? — Голос командира дивизии едва пробивался сквозь треск и шипение. — Поглядел на Германию? Ну и будет! Еще насмотришься! Через час тебя сменят. Не только тебя, все наше хозяйство отводят, будем пополняться… Ничего! Не все ж нам фрица лопатить, надо и другим попробовать. Готовь материалы к награждению. Завтра в четырнадцать тридцать быть у меня! Ясно? Ну тогда все…
Вадимин положил трубку. Значит, другие пойдут за реку. Через день или через неделю, когда подтянутся тылы и все здесь, на этом берегу, соберется в тяжелый, занесенный для удара кулак. Не его, другие солдаты, ломая хрупкий прибрежный ледок, войдут в воду, подняв над головой автоматы.
— Вперед, товарищи! — крикнет им другой командир полка. — Перед вами логово врага! Добьем в нем фашистскую нечисть!..
Может, он, Вадимин, крикнул бы какие-то иные слова. Дело не в самих словах, а в смысле, стоящем за ними, — впереди Германия, и мы пришли к ее дверям, и грозно стучимся в них.
Обидно в такой момент уходить, уступать место другому. И в то же время Вадимин понимал: все правильно. И полк, и дивизия за последнее время потеряли так много людей, что перестали, собственно говоря, быть дивизией и полком.
Вадимин пытался представить себе лица тех, кого он хорошо знал, с кем воевал не один год и кто не дошел до этой реки, не увидел в разводах тумана ее западный берег, не увидел и никогда теперь уж не увидит германской земли.
Наступал самый трудный для него час, когда надо было брать листки бумаги и писать письма незнакомым ему женщинам, сообщая им, что их сын, муж или отец пали смертью героев, до конца выполнив свой солдатский долг. И писать не казенными, истертыми словами, как пишут о тех, кого не знают и, значит, не могут помнить, а какими-то другими, чтоб отразили они все, что чувствовал, приступая к письму, командир полка Вадимин.
«Дорогая Евдокия Петровна! С Вашим сыном Володей мы долгих два года шли вместе по дорогам войны. И вот случилось самое страшное, и я пишу Вам об этом, и не хочется верить, что нет больше нашего Володи Соловьева…»
Первые такие письма майор Вадимин написал еще осенью сорок второго года. Тогда, в боях на Северном Кавказе, погибли многие из его взвода.
— Извещения составлены по форме и отосланы родственникам, товарищ младший лейтенант, — сказал ему в штабе полка пожилой писарь. — Места похоронения указаны, так что зря вы беспокоитесь, у нас полный порядок…
Вадимин долго ненавидел этого писаря, хотя и понимал, что не за что ненавидеть. Не знал старый канцелярист ребят из его взвода, не слышал их голосов, не видел их глаз, не имел ни малейшего представления о том, как жили они и как погибли. Что же требовать от этого человека, кроме пунктуального выполнения его писарских обязанностей? Что он мог рассказать о ребятах из взвода младшего лейтенанта Вадимина, если бы даже и захотел, что мог написать? Ничего ровным счетом. Выходит, писать должен сам Вадимин. И он написал первые свои горькие письма.
С тех пор делал это каждый раз, не перепоручая никому. Не думал поначалу о том, что со временем это превратится в его внутреннюю обязанность…
На следующий день в назначенное время он был в штабе дивизии. Небольшой дом на краю поселка полон людей. По всему чувствовалось, что идут сборы в дорогу. Во дворе стояли штабные автобусы, в них грузили ящики с документами, пишущие машинки и прочий штабной скарб.
— А, именинник, здорово!
— С чего бы это мне именины вдруг праздновать? — не понял Вадимин.
— Узнаешь от «самого». Иди, он уже спрашивал тебя.
Взглянув на часы, Вадимин одернул гимнастерку и толкнул обитую кошмой дверь.
— Разрешите, товарищ генерал?
— Входи, входи…
Вначале разговор шел самый обычный: о потерях в полку, о порядке следования до пункта, в котором дивизия получит пополнение, о представлении отличившихся в последних боях к наградам.
Командир дивизии просматривал списки, качал головой.
— Да, совсем маленько осталось нас, кавказцев, Вадимин, совсем маленько… Голованов, Буденко, гляди ты… Голованов, это который? Тот здоровенный, рыжий, с конопушинами, да?
— Он, Иван Васильевич…
— Знаю, как же! На «Голубой линии» тогда еще отличился. Красную Звезду я ему вручил, помнишь?
— Да, Иван Васильевич…
— Сколько ж тебе писем на сей раз писать, Вадимин?
— Много, товарищ генерал…
— Да-а… И ты всякий раз не забывай, пиши: может, чем помочь сумеем, походатайствовать о чем или заступиться там, если какая холодная душа обидит. В тылу-то она, жизнь, не больно сахарная… Так вот по поводу дальнего тыла. Ту важную птицу, что взяли твои орлы из разведроты, велено доставить прямо в Москву. Полетишь в группе сопровождения… Тут я с командующим о тебе договорился, он разрешил две недели отпуска. Формироваться мы долгонько будем, потому как пополнение в основном из новобранцев, об этом меня предупредили уже. В общем, ребятишек получим из категории «годен, не обучен». Да… Десять дней тебе на дорогу туда-обратно хватит, поезда небось уже с вагонами-ресторанами бегают? — Командир дивизии подмигнул Вадимину, рассмеялся. — Ну и пяток дней дома побудешь. Это тебе за то, что первым вышел к германской границе. Командующий так и велел передать…
* * *— Аоэ! Кубик приехал!
Эту новость во двор с тремя акациями первым принес Ромка.
— Где ты его видел? — спросил Ива.
— Где видел, там видел! По улице с Рэмой шел, ну! Под ручку, между прочим.
— Ты с ним говорил?
— Нет. Почему я должен говорить?
— Ну хоть поздоровался?
— Они по другой стороне шли. Говорили, смеялись, очень веселые были. Я что, должен перебегать улицу, кричать им: аба, здравствуйте, это я — Ромка! На черта я им нужен?
В какой-то степени он был прав — ну чего и впрямь перебегать улицу с криком «здравствуйте»? Можно поздороваться в другой раз, при более подходящих обстоятельствах.
— Теперь они поженятся, — сказала Джулька. — Обязательно. Кубик потому и приехал. А что такого? Очень даже хорошо!
Во флигеле приезд Вадимина особенного восторга не вызвал. Скорее наоборот.
— Ну и что, подумаешь, какой-то майор всего, — комментировала события мадам Флигель. — Вот если б он был генерал-майор, тогда бы еще звучало. Нет, это не партия для нашей Рэмочки! Что он ей может дать, ну что, я спрашиваю?!
— Мама, не трогай эту тему! — отвечала ей дочь и нервно стучала своей дирижерской палочкой по крышке рояля. — Ты не выучила упражнение, ты играешь его, как на кастрюле! — Это уже относилось к ученице. — Собирай ноты, урок окончен!
Ученица уходила, щелкал замок двери, звякала цепочка, и разговор продолжался.
— Когда ты трогаешь эту тему, мама, я рискую упасть в обморок! — Дирижерская палочка продолжала выбивать дробь по крышке рояля.
— Ты поцарапаешь «Блютнер».
— Черт с ним, с «Блютнером»! Ты лучше представь себе, что нам скажет Гришенька! Куда мы отдали его единственную дочь? Сначала она добилась этой ужасной фельдшерской школы, из-за которой я трижды чуть не умерла. А теперь — пожалуйста — майор да еще отъезд с ним на фронт! Ты понимаешь, мама, что такое для девочки фронт?
— Ай, да не стучи ты по «Блютнеру»! И не задавай дурацкие вопросы про что такое фронт! Нам надо подумать, как помешать этому ужасу.
— С Рэмочкой говорить бесполезно. Она же давно влюблена в него. О боже, боже!..
— Слушай, а может, нам обратиться куда-нибудь? Ведь он ее учитель, и вдруг влюблена и все прочее.
— Учитель! Когда это было, мама? Он теперь майор. А она младший лейтенант. Куда же ты хочешь обращаться?.. А ведь к Рэмочке проявлял такой интерес Эдик Заварницкий. Скрипач! Сплошной талант! Заслуженный артист республики! Автономной…
— Дай, ради бога, сюда эту проклятую палочку, ты же царапаешь ею инструмент и мои нервы тоже…
Что касается родителей Минаса, то они по-своему восприняли приезд Вадимина. Узнав у Рэмы его адрес, пришли вечером, печальные, тихие, и попросили:
— Вадим Вадимович, вы в прошлом учитель Минасика, и он всегда очень хорошо занимался по вашему предмету. И вот он уходит в армию. Несмотря на слабое здоровье и предрасположенность к хронической ангине… У нас к вам родительская просьба: вы когда-то учили Минасика не только в школе, но и в этой… в Юнармии. Он так увлекался тогда военным делом!.. Вы можете сказать в райвоенкомате, вам не откажут, конечно, пусть Минасик уедет с вами, пусть он будет при вас, при своем учителе.
— Но ведь… — Вадимину было явно не по себе, он не знал, как ответить на такую просьбу. — При мне в общем-то нельзя быть. Как же это: при мне?
Но родители Минаса продолжали смотреть на него печально и с надеждой.
— Я всего лишь командир стрелкового полка… Вот если б Минаса направили в нашу дивизию, в мою часть… В принципе это возможно, в военкомате могли бы в порядке исключения оформить такое направление, но…
— Райвоенком вам не откажет, Вадим Вадимович! Как он может отказать вам? Вы же герой войны, боевой офицер. И потом ведь все совершенно законно…


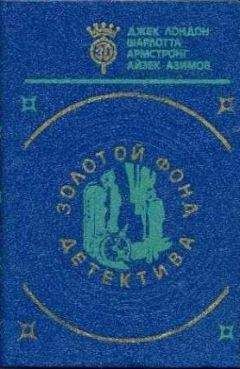

![Валентин Горблюк - Хроники московского провала [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)