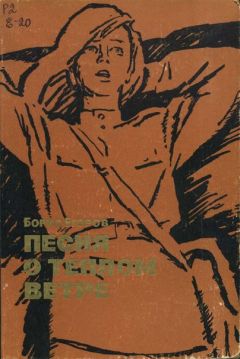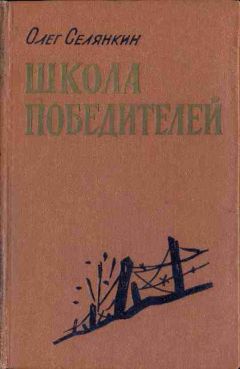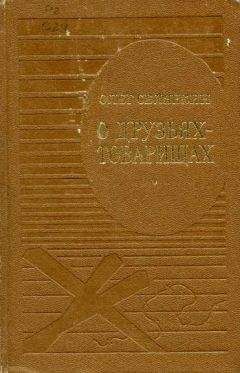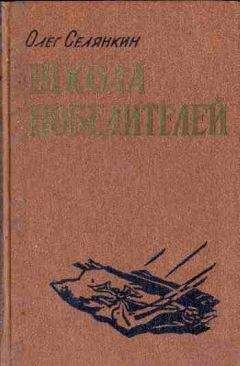Олег Селянкин - Они стояли насмерть
— Сейчас заживем! — сказал Никишин. — Они принесут воды, сделаем носилки и мигом доберемся до медсанбата.
Его голос действовал на Норкина успокаивающе.
— Не обманут? — усомнился Ольхов.
— Ленинградцы, — ответил Никишин.
Носилки сделаны. Норкин, даже не взглянув на мутную болотную воду, прильнул губами к каске и стал пить С жадностью, словно боялся, что каску отберут.
До его ушей донесся обрывок разговора: — А командир стоящий или как?
Спрашиваешь! — ответил Никишин. — За Кулаковва был.
— А-а-а…
Мерно покачиваются носилки. Плывут мимо деревья. Ноет грудь. Снова хочется пить. Один из ополченцев ещё раз сбегал за водой и теперь шел рядом с носилками. В его руках, как ведра, покачивались каски. Чем дальше уходили от фронта, тем больше хотелось пить. Норкин совсем ослабел. Голова его лежала на палке носилок. Глаза тоскливо смотрели по сторонам.
И в этот момент чья-то рука тихонько легла ему на голову. Пальцы забрались в волосы и забегали в них, гладя и перебирая слипшиеся от пота пряди. Это Никишин, который только что сменился и теперь шел рядом с носилками. И его немая ласка, ласка товарища, была дороже громких фраз и клятв о мести. В ней заключалось все: любовь, уважение, доверие и ободрение.
— Наберись сил! Ты хорошо воевал, а теперь перенеси и это испытание! Будь мужчиной до конца! — беззвучно говорили пальцы.
Под их говор Михаил закрыл глаза. Из-под опущенных век выступила слеза и остановилась. Ее вызвала не боль, не жалость к самому себе.
Неподвижно, с закрытыми глазами, лежал Михаил.
— Никак уснул? — прошептал рядом незнакомый голос.
Норкин почувствовал на своей щеке чье-то дыхание, но глаз не открыл.
— Уснул…
«Это Ольхов», — подумал Михаил.
— Досталось бедняге… Видать, здорово мучается…
— А ты что думал? Очередь по груди стеганула. Немного погодя снова тот же голос произнес:
— А характер у него, видать, настоящий. Губы кусает, пить просит, а чтобы застонать — ни-ни!
— Характер что надо! Моряцкий! — ответил Никишин. — У нас весь батальон такой… Решили стоять — и стоим. Кровь из носу, а стоим!
— Коммунист? — не унимался спрашивающий.
— Комсомолец….
«Я буду Коммунистом… Таким как Лебедев! — хотел сказать Норкин и не смог. — Где его рекомендация? Неужели потерял?» — забеспокоился он и пошевелился.
Резкая боль, словно искра, пробежала по телу, и Михайл потерял сознание.
Плавно покачиваются носилки… Молчат угрюмые санитары…
2Осень тысяча девятьсот сорок первого года.
Косматое небо нависло над землей. Холодный ветер налетает порывами. По дороге, изрытой гусеницами танков и тягачей, идут семнадцать матросов. Это бывший батальон Кулакова. Впереди — Никишин, за ним — Люб-ченко с «Максимом» на плечах и уже дальше — остальные матросы. Замыкающим — Козьянский.
Он еще больше похудел, но взгляд стал тверже, увереннее. Нечего ему стыдиться. О прошлом и не вспоминай: честно дрался краснофлотец Козьянский. Теперь его насильно не оторвешь от батальона. Все помогали ему стать настоящим человеком. Даже Заяц.
Еще в тылу у фашистов он начал разговор с Козьянским и потом как клещ присосался к нему. Стоит роте остановиться на отдых — Заяц тут как тут! Слово за слово — и начинается беседа: кто ты такой? Откуда?.. И неизбежно в конце каждого разговора: «Плохи наши дела…»
И однажды, вскоре после ранения Норкина, Заяц снова подсел к Козьянскому.
— Дела неважнецкие, — сказал Заяц.
— Труба, — ответил Козьянский любимым выражением Норкина.
Заяц стрельнул в него глазами, помолчал и начал, понизив голос до шепота:
— Я тебе как корешу скажу. Понял? Но об этом, — и он многозначительно прикусил палец. — Я сам блатной. Понял? Мы с тобой люди свои и чиниться нам нечего. Подрываем отсюда, а?
— Куда? — спросил Козьянский, глядя себе под мои ги: он боялся, что в его глазах Заяц увидит слишком ясный ответ.
— Ясно, куда! К немцам! Нехай эти сами с ними воюют, а наше дело правое — подрывай и притулись у того, кто сильнее. Понял?
— Как-то они нас примут… — усомнился Козьянский.
— Спрашиваешь! С лапочками! — И еще тише стал голос, торопливее речь: — Я тебе точно говорю! Первыми людьми будем.
— Да ты-то откуда знаешь? — теперь уже с искренним удивлением спросил Козьянский.
— Раз говорю — значит, знаю, — уклончиво ответил Заяц.
И сразу вспомнилась та старушка, что поила молоком, Любчеико, бросившийся ему на выручку, Норкин — первый человек, доверивший ему, вору, свою жизнь. Забыть все это и перебежать?
Козьянского так и подмывало заехать кулаком в эту заплывшую рожу, треснуть по ней разок-другой и сказать: «Не на того, сволочь, наскочил! Родиной не торгуем!».
Козьянский сжал пальцм в кулаки и резко поднялся.
— Ты чего? — с тревогой спросил Заяц. Козьянский заметил, что пальцы Зайца лежали на спусковом крючке автомата.
— Такое дело сразу не решишь, — ответил Козьянский, стараясь казаться как можно спокойнее. — Обмозговать надо.
— А вообще?
— Что вообще?
— В принципе как?
— Можно бы, — ответил Козьянский и торопливо добавил: — Давай расходимся, пока не засекли… Вечерком поговорим…
Несколько часов ходил Козьянский задумчивый. Что делать? Переходить к фашистам он не думал, но как быть дальше? Нехорошие разговоры у Зайца… Сказать о них командирам? Выдать товарища?.. Хотя, какой черт он товарищ! Серый волк ему товарищ!
И Козьянский пошел к Ясеневу. Сам он не испытывал особой симпатии к комиссару батальона, но бывший командир роты всегда считался с мнением комиссара, верил ему, и Козьянский тоже решил поверить.
Ясенева он застал в маленьком домике на окраине села. Комиссар сидел за столом и что-то писал. Его раненая нога лежала на единственной табуретке.
— Разрешите обратиться, товарищ комиссар?
— Пожалуйста, — ответил тот и начал снимать ногу с табуретки. — Садитесь.
— Вы не беспокойтесь, я постою, — взволнованно ответил Козьянский. Он уже был уверен, что попал точно по назначению: человек, который причиняет себе боль лишь для того, чтобы усадить другого, обязательно пой-мет его.
— Садитесь, садитесь! А я на кровать устроюсь!.. Ну, что у вас?
Козьянский, торопясь и сбиваясь, рассказал Ясеневу про все разговоры Зайца. Комиссар выслушал его, не-: сколько раз переспросил, добиваясь подробностей.
— Больше вы ничего за ним не замечали? — спросил Ясенев, как только Козьянский закончил свой рассказ.
— Вроде бы все, товарищ комиссар… Разве вот… Да это мелочь.
— Говорите, говорите, — ободрил его Ясенев.
— Когда мы еще из окружения выходили, он хотел стрелять по самолетам, которые кружили над нами… Так я ему не дал…
— Почему?
— Приказ командира роты был такой, чтобы не стрелять…
— Ясно… А почему Заяц хотел стрелять?
— Не знаю… Он сказал, что нельзя фашистам позволять безнаказанно летать над нами…
— А если подумать? Сбил бы он самолет из автомата? Словно пелена упала с глаз Козьянского.
— Так неужто он… Я его, гада, сейчас стукну! — крикнул Козьянский и рванулся к дверям.
— Назад! — повысил голос Ясенев и уже более спокойно: — Тут, товарищ Козьянский, иначе действовать надо. Спасибо вам, от всей души спасибо, а о нашем разговоре никому ни слова! Договорились?
— Ясно, товарищ комиссар.
Вечером Зайца арестовали, а на другой день Ясенев перед строем всего батальона за проявленную бдительность объявил благодарность краснофлотцу Козьянйсому.
Впервые благодарили Козьянского за хорошее дело. Слезы сами навернулись на глаза и он не стыдился их. Он вошел в семью моряков, как равный среди равных.
Ветер бил в грудь, но матросы нагибались навстречу ему и шли, шли медленно, с трудом переставляя ноги, отяжелевшие от бесконечного марша и налипшей на них грязи.
Недели две назад батальон Кулакова (он так и назывался, хотя у него был уже другой командир) перебросили на новый участок фронта. Тревожное это было время. Только одна дорога связывала Ленинград со всей страной. По ней непрерывным потоком шли эшелоны, но враг хотел перерезать и ее, замкнуть кольцо вокруг города. Здесь не было ни дотов, ни блиндажей. Просто по болоту, розовому то ли от крови, то ли от клюквы, тянулась извилистая бороздка неглубоких окопов, похожая на обыкновенную сточную канаву.
Синеватый горький дым горящего торфа закрыл город, чавкала под ногами вонючая жижа, падали, словно во время урагана, деревья, но враг долго не мог продвинуться вперед, топтался на месте, атаковал и снова откатывался назад. Много фашистов навсегда осталось лежать В этих болотах. И пройдут года, засосет бездонная трясина искалеченную пушку, желтоватая смола зальет зарубки, сделанные осколками на стволах сосен, а люди еще долго будут находить и грязи то фашистскую каску, то останки гитлеровцев с крестами, полученными за грабеж Европы.