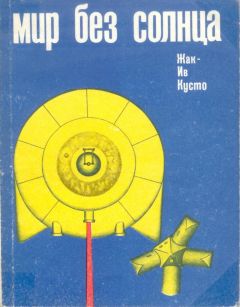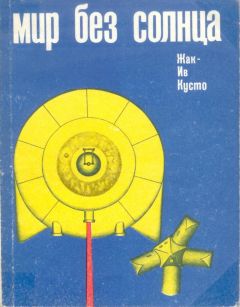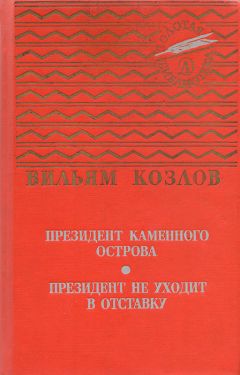Виталий Мелентьев - Фронтовичка
— Задача военного врача, — говорила она комбату, когда тот сетовал на чрезмерную доброту батальонного врача, — состоит не только в оказании помощи пострадавшим или больным, но и в том, чтобы не допустить болезни, заботиться о здоровье каждого, даже здорового человека. Одним словом, вести активную профилактику.
Поэтому получилось так, что одни бойцы так и не попали на кухню за все время отдыха, а другие работали на ней по нескольку дней подряд.
По одним только ей заметным признакам Анна Ивановна отобрала для работы на кухне и Страхова. Он проболтался возле столовой полдня, обругал Ларису и вернулся во взвод. Вечером Лариса раздраженно и с явным превосходством в голосе сказала Вале:
— Слушай, разведывательный комиссар…
— Почему комиссар?
— А тебя так все называют. Ты ведь там вроде комиссара! Отделения нет, а всеми командуешь.
Валя промолчала, но не без удовольствия отметила, что положение ее во взводе определено довольно точно, и поэтому примирилась с новым у Ларисы тоном превосходства.
— Так вот, комиссарша, ты возьмись-ка за своего Страхова — паразит какой-то. Как бешеный или контуженный.
Объяснить дальше Лариса не пожелала, собралась и ушла на кухню — она все реже и реже ночевала в землянке, и Валя не удивлялась этому: кухня требует очень много времени и сил.
Утром, сразу же после умывания, Валя остановила Страхова и как можно приветливей спросила:
— Гена, что у тебя на кухне случилось?
Страхов дернулся, нахмурился и мрачно ответил:
— Да иди ты…
— Слушай, Страхов, ты сам понимаешь, что я никуда не пойду. Поэтому давай говорить начистоту. Ведь хуже будет, если об этом узнают в политотделе.
— Ты ж сама первая и растреплешься.
— Генка, как тебе не стыдно?! — по-настоящему обидевшись, воскликнула Валя и отвернулась.
Они медленно шли рядом. Где-то, далеко вправо, на высоких нотах завывали моторы и время от времени слышалось тарахтение авиационных пулеметов — шел воздушный бой. Но самих самолетов не было видно. Страхов вздохнул и задиристо спросил:
— Ты чего седая?
Отвечать не хотелось, но Валя решила, что ответить нужно, и ответить правдиво.
Когда она кончила свой рассказ, Страхов покачал головой:
— Хватила, выходит, горя.
Валя промолчала.
— А чего ж ты не доложила, что Зудин спирт схопил и меня напоил?
— А ты как думаешь, почему? — повернулась к нему Валя.
— Думаю — струсила, — и наставительно заметил: — С Зудиным не связывайся. У нас были такие — после первой разведки в госпиталь отправлялись.
Ее опять сразу охватила жгучая ненависть, и, повернувшись к Страхову, она заглянула в его словно двойные глаза. Он не выдержал и отвел взгляд.
— Плевала я на твоего Зудина, понял? Просто я доносчицей никогда не была. А Зудину скажи — пусть со мной в разведку не ходит: обратно не вернется. Если хочешь — иди доложи кому следует.
Она повернулась и быстро пошла прочь.
Незадолго до обеденного перерыва, когда взвод собрался на полянке, Зудин, подмигнув товарищам, громко сказал:
— Не хочется что-то заниматься: все равно в разведку ходить не придется — пришьют.
Стало так же тихо, как в те минуты, когда Генка жал Валину руку. Даже прыгавшая на ветке и легкомысленно щебетавшая пичужка примолкла, нахохлилась и, склонив набок голову, скосила вниз бисеринки глаз.
Валя медленно подошла к Зудину почти вплотную. Ощущая на себе взгляды товарищей и понимая, что она должна сейчас нравиться этим ребятам, нравиться не как девушка, а как человек — дерзкий, самостоятельный и смелый, — она раздельно протянула:
— Слушай, ты… Двоим нам здесь тесно. Дошло?
— Давно.
— Так вот — пиши докладную о переводе. Иначе будет поздно.
— Это что ж… разговор по-комсомольски?
— Нет, по-партийному. Напрямик.
— А если в политотдел об этом стукнуть?
— Вот ты и стукни. У тебя ж везде свои стукачи есть. А я играю начистоту и еще раз советую: пиши докладную. В бою будет поздно.
Зудин промолчал, как всегда, двусмысленно усмехаясь, и отошел своей легкой, волчьей походкой. Ему вслед двинулся уже только один безмолвный дружок. Второй остался стоять рядом с бледным, вызверившимся Геннадием.
Подошел командир взвода и миролюбиво произнес:
— Обедать будем, товарищи? Только оружие почистите.
На чистке оружия по пояс голый Геннадий подошел к Вале:
— Что ж ты… Сама просила передать, а теперь — стукач?
Она подумала и ответила:
— Да, получилось нехорошо. Извини. Но я была слишком злая.
Геннадий не ожидал извинения, потоптался, и мускулы на его кипенно-белом могучем теле опали.
— Все вы такие… — не совсем уверенно протянул он.
Возбужденная, натянутая как струнка, Валя жила весь этот день на нервах и только вечером возле комбатовского грузовика немного отошла и, взяв у танкистов гитару, спела несколько песен. И чем дольше она пела, тем грустнее ей становилось. Почему-то вспомнился погибший Андрей, таким, каким он был на последнем для него концерте. Вспомнился Осадчий, его влажно блестевшие глаза, и она, как и в тот вечер, приложив ухо к гитаре, тихонько повела:
Глухой, неведомой тайгою,
Сибирской дальней стороной…
И вдруг следующую строку подхватил мягкий, приятный мужской голос:
Бежал бродяга с Сахалина…
Голос окреп, и Валя невольно перешла на подголосье:
Звериной, узкою тропой.
И тут после гитарного перебора грянуло сразу десятка три самых различных — басовитых и тенористых — мужских голосов, их поддержали другие, и маленькая полянка в тихом лесу стала тесной.
Когда Валя перебрала струны и повела второй куплет как можно печальней и одновременно как можно радостней, — такое тоже может быть в песне, потому что охватившая ее неизвестно откуда взявшаяся радость перемешивалась со сладкой печалью, — на поляне было необыкновенно тихо, и бойцы медленно подвигались поближе к гитаристке. В нужном месте Валю опять поддержал все тот же голос, а на четвертой строке куплета она сама, почему-то замирая, перешла на подголосье. А потом снова грянул еще более мощный хор, уже почуявший настрой песни, ее сегодняшнее, неповторимое звучание.
Пели самозабвенно, пели, покоренные красотой тронутого молодым месяцем задумчивого леса, необыкновенным слиянием двух голосов — мужского и женского, так неожиданно и так легко сошедшихся и сразу понявших друг друга, пели, покоренные жаждой жизни и свободы, сознанием, что путь к этой свободе далек и мучителен.
Когда допели, расходиться не захотелось. Вокруг Вали сгрудились необыкновенно милые, возбужденно-деликатные, пахнущие потом и соляркой, ворванью от сапог разновозрастные ребята. Остановились на только что входящем в моду вальсе «В лесу прифронтовом». До этой минуты Валя была просто счастлива тихим, щемящим счастьем и не думала о том, кто ей подпевал и покорял. Ребята закричали:
— Товарищ гвардии капитан, садитесь поближе!
— Товарищ комбат, вы сюда, сюда!
Голоса эти звучали так приветливо, столько в них было скрытой суровой мужской любви и уважения, что Валя и удивилась и внутренне собралась, словно перед опасным, решающим в жизни шагом.
Их все-таки усадили рядом, и Валя, чтобы скрыть волнение, не глядя на комбата, предупредила:
— Я мотив еще плохо знаю.
— Вытащим! — уверенно сказал Прохоров и улыбнулся широкой, слегка озорной и в то же время очень доброй улыбкой.
И Валя, робея, перебрала струны. Прохоров толкнул ее локтем и шепнул:
— Начинайте. У нас хорошо получилось.
Валя, справляясь с волнением и сосредоточиваясь, повела песню. Прохоров сам нашел и тот такт, когда ему нужно было вступить в песню, и тот, когда ему требовалось перевести Валю в подголосье, и даже тот, когда он снова передал ей песню. Таким, не только музыкальным, но и человечески чутким, был только Виктор, один только он. А тут появился другой, и Валя не удивилась этому, а только замерла от неясного предчувствия.
Спели еще несколько песен, и каждый раз, слушая, как над ухом бархатисто переливается гибкий молодой голос, ощущая дыхание комбата, а потом, под конец, тепло его коленки, Валя сдерживала особенную бешеную радость, похожую на ту, что родилась в ней в землянке, в день гибели Андрея. И комбат словно угадал ее настроение. Он вскочил — высокий, статный, широкоплечий, с выбившимся чубом — и вдруг крикнул отчаянно веселым, нарочито и смешно искаженным голосом:
— Эй, ви, жаби, дайте мине стоса с виходом!
Видно, Прохоров очень удачно передразнил кого-то знакомого, потому что сразу грохнул смех и почти сейчас же откликнулась молчавшая до сих пор гармошка. Было в ее наигрыше что-то цыганское и в то же время блатное, как походка Зудина, как его манера подмигивать. Но было и другое — затаенно веселое, перерастающее в буйное, без удержу, веселье, тот особый лад, под который не притопнет разве только безногий.