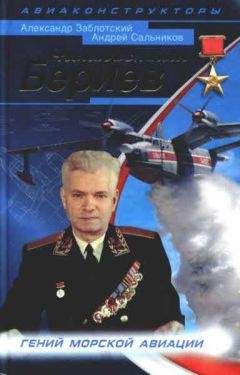Олег Сидельников - Пора летних каникул
— Сколько вор ни ворует, а тюрьмы не минует, — Вилька с удовольствием сунул сигарету в рот, сбегал прикурить, вернулся довольный. — Давно я не баловался табачком. Что же это ты, Глебик, скромных мальчиков развращаешь? Нехорошо.
Глеб неумело раскуривал сигарету.
За компанию закурил и я, вдохнул дым, поперхнулся.
— Брось, Юра, — Глеб конфузливо опустил голову. — Ни к чему это. Сдурел я. Тоска заедает.
Мне хотелось сказать другу, чтобы он взял себя в руки, что вся жизнь еще впереди…
— Вот что, — оборвал он мои размышления. — Надо сказать комбату: теперь наша очередь.
Вилька придавил окурок каблуком, удивленно вскинул бровь.
— Да, наша очередь, — повторил Глеб. — Не понимаете? Что ж, по-вашему, мы так и будем за чужими спинами прятаться? А старшина Могила, а майор Шагурин и комиссар Бобров, а эти двое… которые с трофейным пулеметом остались? Им меньше нашего жить хотелось? — В голосе его что-то дрожало.
— Глеб… — начал было я, но Вилька перебил;
На этот раз он не шутил:
— Друг хороший… Ты здорово сказал, — нынче наша очередь. Мы уже не дети…
— Не дети! Так зачем же мы все молчим? Будто ни Павки, ни Кати никогда не было?! Молчим, сами себя обманываем. Зачем молчим?
— Потому что мы стали взрослыми. Мы молчим, но помним слова Павки: «Нужно жить для других, надо ценить слова, подкрепленные поступками…» Мы помним Катины муки и мстим за нее. От нашего батальона осталась горстка. Факт. Но это все-таки батальон. Он сделал из оравы фашистов груду тухлятины. Он сражается один против трех. Один против пяти. Ты видел, как горели их танки?.. Ты прав, Глеб, нынче наш черед.
— Спасибо… ребята, — Глеб благодарно улыбнулся.
Потом мы лежали, подмяв под себя душистые колосья, вспоминали довоенную, такую далекую, неправдоподобно прекрасную жизнь, и нам казалось, будто мы говорим не о себе, а о других.
— Странно как-то, — удивлялся Вилька. — Выбили мне глаз, а я хожу, стреляю… вроде ничего не случилось. А Юрка? Если бы ему дома два пальца оттяпало — крику бы было! Здесь же в порядке вещей… Ты что руку-то, как младенца, укачиваешь?
— Дергает.
— Спасителю покажи.
— Нету спасителя, — покачал головой Глеб.
— Жалко человека… Так я о чем говорю — переменились мы. Помните самую первую бомбежку? В городском парке. Честно говоря, я тогда чуть не рехнулся от страха. Каждый взрыв, каждый визг осколка на меня впечатление производил. Был бы писателем, я бы такие красочные страницы накатал! А теперь… Ну стреляют, ну страшновато, конечно. Но главное, в душе — злоба, ненависть.
Я поразился — до чего точно выразил Вилька мои собственные мысли. И Глеб оживился:
— Верно. Ну а все-таки… вдруг убьют?
— Не верится. Кроме того, Глеб, ты сам когда-то доказывал, что погибнуть на войне — все равно что выиграть двадцать пять тысяч.
Мы рассмеялись. Глеб покусал колос:
— Какими же мы младенцами были! Помолчали.
— До чего же жить хочется, — Вилька сглотнул слюну. — Очень хочется. Слышь, Юрка, ты чего куксишься?
— Отца с матерью вспомнил. Где теперь они, что с ними?
— М-да-а, — вздохнул Глеб. — И мой старик где-то скитается.
Мы вроде ничего особенного не сказали. Но Вилька!.. Лицо его искривила болезненная гримаса.
— Вилька!
— Ничего… ничего, ребята, — наш друг провел по лицу ладонью. — Ничего… Ребята, за что меня так, а? Ребята?.. Вот вернетесь вы с войны… Все. А мне к кому?
Вилька всхлипнул. Умолк.
— Ладно, ладно, дружище, — Глеб говорил ласково, но в голосе его не было уверенности. — Все уладится.
До слез хотелось успокоить нашего друга. Однако что-то удерживало.
Вилька вновь провел рукой по лицу.
— До чего же хочется хоть одним глазом, — он не-зесело усмехнулся, — взглянуть на родной город!.. Жив останусь — разобьюсь, а съезжу.
Комиссар Мчедлидзе — тот самый артиллерист с эмалированными зубами, который совсем недавно говорил Вильке: «Памалчи, пожалуйста, дарагой!», а потом командовал нашим взводом, — комиссар Мчедлидзе целый час, наверное, ходил возле нас кругом да около и, наконец, не выдержал:
— Паслушайте, генацвале, есть один, панимаете, разговор. — Мчедлидзе нервно теребил свою дремучую бороду, и в огненных глазах его сверкали беспокойные искорки. — Вы люди умные, хочу посоветоваться. Комбат меня комиссаром сделал, не спрасил, а я совсем беспартийный… Вах, что делать?
Вилька крякнул от удовольствия — такая роскошная возможность поострить! Глеб, однако, дернул его за рукав. Вилька прикусил язык.
— Хм, — неопределенно произнес Глеб.
— Между нами, — Мчедлидзе выразительно заблестел белками и сложил пальцы щепоткой, словно собирался креститься сразу обеими руками. — Конфиденциальный разговор, генацвале.
— Понятно, — успокоил Вилька и тут же огорошил нового комиссара — Нехорошо получилось. Придется отменить приказ комбата. Первый приказ. Нехорошо — подрыв авторитета.
Мчедлидзе страдальчески закрыл глаза:
— Вах-вах-вах…
Мчедлидзе всегда казался мне человеком в летах. Возможно, он мне казался таким из-за его неправдоподобной бороды — она была у него словно вырубленная из камня, как у древней статуи — только очень буйная и ужасно-черная. Но сейчас, когда Мчедлидзе страдал, я вдруг понял, что он не старый — года на три-четыре старше нас, не больше.
И мне стало очень жалко нашего нового комиссара. Я представил себя на его месте и окончательно расстроился. Действительно, положеньице!
— Послушай, дорогой, — сказал я, незаметно для самого себя переходя на лексикон Мчедлидзе. — Не расстраивайся, не надо, ты, наверное, комсомолец, а это уже кое-что.
— Вах! Какой комсомолец? За-ачем комсомолец! Беспартийный. Совсем беспартийный. Даже не член профсоюза. Колхозный тракторист я.
Престиж наш повис на волоске. Человек обратился за помощью и советом к культурным людям, а они хлопают глазами и глупо хмыкают.
Вилька спросил:
— А партийные… Есть партийные в батальоне?
— Что за вопрос? Конечно, есть. Только все рядовые.
— В таком случае, если необходим комиссар…
— Что за вопрос? В каждой части необходим комиссар…
— …тогда назначить одного из рядовых, но партийного.
Мчедлидзе рассердился, белки его глаз налились кровью.
— Ты что, смеешься? Да? Смеешься?! Сам говорил — подрыв авторитета. Над комбатом смеешься, да?
В воздухе запахло порохом. Обидчивый Мчедлидзе вообразил, что мы разыгрываем его, чтобы посмеяться над ним и над комбатом.
Выручил Глеб. Он уже давно хмурил брови, что свидетельствовало о его напряженной мыслительной работе, и вдруг, очень к месту, сказал:
— Не волнуйся, дорогой (он тоже заразился от Мчедлидзе колоритной манерой разговаривать), оставайся комиссаром.
Мчедлидзе ахнул:
— Вах!.. Как так? Совсем беспартийный…
— Зачем беспартийный? Советская власть нравится?
— Конечно.
— Партию большевиков уважаешь?
— Зачем такие слова говоришь? Обижаешь, да? Конечно, уважаю.
— Вот и хорошо. Значит, ты беспартийный большевик. Давай, будь комиссаром, — показывай пример бойцам, уничтожай фашистов, как настоящий большевик. Хорошо будет. А как до своих пробьемся — расскажи, кому надо. Честное слово, ругать не будут. Даже похвалят, а может, даже и в партию примут.
Мчедлидзе просиял. Он долго тряс Глебу руку и выбрасывал из себя жаркие слова благодарности:
— Спа-асибо, дарагой, шени чери ме! Ах, спасибо. Умный человек! Ах, до чего умный!.. Разобьем фашистов — приезжайте все в гости… Братьями будем. Меня в Тбилиси все знают. Спраси любого: «Где живет Ва-но Мчедлидзе, сын Ираклия Мчедлидзе — чемпиона по нардам?» Любой скажет. А если не скажет, иди в Сабуртало. Там уж каждый покажет… Даже ребенок, генацвале.
Мчедлидзе подумал и добавил:
— Конечно, люди разные попадаются. На всякий случай запомните адрес: Тбилиси, Сабуртало, а дальше — там, где кукурузные поля, третий дом с левой стороны. Приезжайте, генацвале, не пожалеете. Шашлык будет, сациви — язык проглотите, лобио, маджари, хванчкара — прямиком из Кутаиси…
Он говорил с таким азартом, так умолял нас непременно приехать в Сабуртало, что казалось, война уже кончилась, и мы сейчас раздумываем: куда ехать — по домам или в гости к Мчедлидзе.
Наконец бородач выговорился и ушел.
— А что, — Вилька чмокнул губами и оттянул двумя пальцами кожу на кадыке — точно так, как это делал Мчедлидзе, — из него толковый комиссар получится. Главное — энергии на целый взвод и голова отчаянная.
Вилька не ошибся. Мчедлидзе развил кипучую деятельность. Прежде всего он объявил бойцам, что комбат и он, комиссар, глубоко верят в их стойкость и мужество. Однако вера верой, а дело делом. Это неважно, что в батальоне мало осталось бойцов и всего два пулемета. Если каждый боец будет сражаться, как герои поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» или хотя бы как Георгий Саакадзе — фашистам придется плохо.