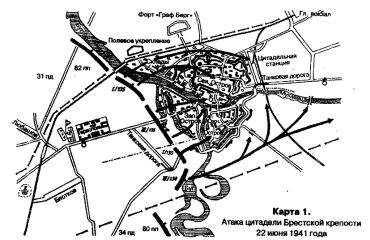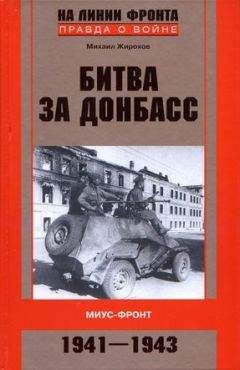Сергей Михеенков - Из штрафников в гвардейцы. Искупившие кровью
Он стал напротив русских. Для твердости расставил ноги. Вскинул винтовку, прижал к плечу холодный, мокрый от росы приклад. Бальку предстояло стрелять в старика. Он стоял на правом фланге отделения, приготовившегося выполнить приказ вестфальца. Старик сразу побледнел. Голова его подрагивала. Он что-то шептал и судорожно ловил трясущейся рукой с узловатыми пальцами крестьянина руку душевнобольного. Да, сомнений быть не могло, это его сын. Они похожи. Молодой вначале с любопытством смотрел по сторонам, потом тоже все понял, и из глаз его, как у ребенка, брызнули слезы.
— Пли! — скомандовал унтер.
Залп оказался громким, как будто выстрелило не отделение, а вся рота фузилеров, и мир, вся жизнь Арнима Балька, убеждения и даже мечты в одно мгновение переместились в другое измерение.
Иногда она засыпала, отключалась на несколько мгновений, и тогда ее полет становился слетим, невесомым, как случайный сон солдата, и не столь стремительным. Но это не меняло ее сути.
Глава двадцатая
На хутор Радовский не вернулся. Воронцов и Иванок прождали его дотемна. Оседлали коней. Попрощались с хуторянами.
Воронцов обнял старика Сидоришина и сказал:
— Держись, Иван Степаныч.
— Держусь, держусь, Сашок. Мне бы Стеню дождать. Тем и держусь. А там… — И старик махнул рукой.
Уже когда сели на коней, Иван Степанович взял за уздечку Гнедого и пошел проводить их до протоки.
— Передавайте поклон всем прудковским. Ты, Иванок, матери, Степаниде Михайловне кланяйся. А ты, Сашок, своим. И береги себя на войне. Теперь за тобой вон какая ватага. Зина за всеми не управится. Ты — командир. Военное училище заканчивал. Повоевал уже порядочно. И должен понимать, что войско сильно не только храбростью, а умом и хитростью воеводы.
Когда выбрались из поймы в лес и пустили коней по краю просеки, увидели впереди Нила.
— Смотри-ка, Сань, — указал винтовкой в дальний конец просеки Иванок.
— Ты давай — вперед. А я задержусь немного.
— Что, поговорить хочешь с божьим человеком?
— Хочу.
Иванок хлестнул прутом коня, погнал по краю просеки. Поравнявшись с неподвижной фигурой монаха, сдернул с головы кепку и сказал негромко:
— Здравия желаю, отец Нил!
— Здравствуй, братец. Храни тебя Господи!
Нил поднял руку, и конь остановился. Иванок дернул повод и хотел было объехать монаха, но конь стоял как вкопанный.
— Не ожесточайся. Не превращай сердце в камень. — И перекрестил Иванка.
Воронцов спешился, поздоровался. Нил протянул свою тяжелую мужицкую ладонь, неожиданно крепко пожал руку Воронцова.
— Садись, солдат, садись на коня и поезжай со спокойной душой. Ничего и никого не бойся. Так все и перетерпишь с Божией помощью. Евсеюшке поклон. Ежели силы Бог даст, навещу его. А когда, не знаю. Поезжай. Тебя уже там ждут. И дома, и в окопах. А усталость надо перешагнуть. Перешагнешь. Поезжай со спокойной душой. Судьбы не объедешь. И за ним… — Нил указал в глубину просеки, где покачивалась спина Иванка. — За ним присматривай. Головушка неразумная.
Воронцов вскочил в седло и, не оглядываясь, поскакал догонять Иванка. Хотел спросить Нила, и уже в уме приготовил вопросы, а монах сам все сказал. Будто заглянул в душу, замутненную сомнениями.
Ехал и думал о том, что услышал. Перебирал в памяти слова Нила. И вроде легче стало на душе. И усталость, как дождь, который уже прошел и не повторится, высохла на плечах и уже не давила подспудной тяжестью. О детях не спросил, спохватился он и оглянулся. Но никого уже не было в дальнем конце просеки, где минуту назад расстался с отшельником.
В полночь они подъехали к Прудкам.
Зинаида засветила керосиновую лампу. Быстро накрыла на стол. Над печным плечом колыхнулась шторка. Послышался голос Петра Федоровича:
— Слава тебе господи, вернулся. — И минуту спустя: — Коней-то пригнали?
— Целы кони, Петр Федорович. Иван Степаныч и хуторские велели кланяться.
— Все живы-здоровы?
— Все.
— Зина, — позвал Петр Федорович дочь, — накорми жениха. Я уже вставать не буду. Спина моя что-то залиховала. А ваше дело молодое…
Зинаида подливала Воронцову молока. Стоило ему отпить несколько глотков и поставить на стол кружку, она тут же со смехом подливала в нее из глиняного горлача. Глаза лучились, щеки румянились, и вся она, казалось, была окутана тем трепетным нежным сиянием, которому причина может быть только одна. Воронцов следил за ее взглядом, за движением рук, он через стол чувствовал тепло, исходящее от плеч и шеи, от румянца, который играл на коже.
Не спалось за шторкой и Петру Федоровичу. И погодя, через вздох, тот подал голос:
— А хорош пол у нас вышел, Ляксан Григорич! А?
Зинаида не выдержала, прыснула. Залилась румянцем еще гуще. Засмеялся и Воронцов. Радостно вздохнул за шторкой и Петр Федорович.
— А Степаненковы как рады! — всплеснула руками Зинаида, стараясь увести глаза и мысли Воронцова на какую-нибудь другую тему. — Тятя, слышишь? Дядя Митя приказал соломы наносить. Застелили холщовым полотном и спят теперь вповалку. Вокруг печи!
— Ну так разве ж не радость?! После землянки! Скоро всем хаты отстроим.
— Как тут Анна Витальевна? — тихо спросил Воронцов Зинаиду.
— Обживается. Ничего, привыкнет. Алеша вначале спал с нею. А потом попросился туда, к ребятам. Они там, на печи, тоже теперь, как на соломе у Степаненковых. Колхоз!
Воронцов, когда зашел в дом, первым делом взглянул на спящих детей. Улита лежала с краю, разметав во сне голые ножонки. Рядом, уткнувшись в подушку, посапывал Алеша. А дальше по ранжиру лежали Колюшка, Федя и старший Прокопий. Воронцов поправил одеяло, укрыл дочь, потрогал льняные волосы. Сказал Зинаиде шепотом:
— Как воробьята.
— Точно-точно, — засмеялась она.
О том, что произошло в овраге в лесу между хутором и аэродромом, он не рассказал ни ночью, ни на следующий день. Только Анне Витальевне, которая за завтраком несколько раз вопросительно взглянула на него, он сказал:
— Георгий Алексеевич просил передать, что…
Она вся вытянулась навстречу.
— …что он любит вас и что он обязательно разыщет при первой же возможности. И еще: чтобы вы берегли сына.
Она молча кивнула и улыбнулась. Как будто большего и не ждала.
В полдень к дому подъехала повозка. Иванок привязал вожжи к скобе, вбитой в воротину, и постучал кнутовищем в окно:
— Сань! Ты собрался? А то уже пора!
На его нетерпеливый стук вышла Зинаида. Не затворяя за собой двери, позвала с крыльца:
— Зайди, Иванок! Молочка попей. В дорогу.
— Молочка-то в дорогу можно, — согласился он и внимательно посмотрел на Зинаиду, словно пытаясь увидеть в ней какую-то важную перемену, которая непременно должна была произойти. Но сколько он ни приглядывался, ничего такого не заметил.
Ее пьянил не только свободный полет. Нет, не только это. Запах сгоревшего пороха — вот что давало новые силы для полета и укрепляло уверенность в том, что ему не будет конца. Река, казалось, пахла не водорослями, не илом. Нет, она пахла порохом. И с каждым часом запах, исходивший от воды, становился все сильнее. Река, где сошлись в смертельной схватке лучшие солдаты противостоящих армий. Река не разделяла их, нет. Она соединяла неприятелей узами, о которых выжившие будут вспоминать до конца своих дней.
Глава двадцать первая
Новая рота, которой выпало командовать старшему лейтенанту Нелюбину, ничем особенным от предыдущих не отличалась. То, что во взводах простыми солдатами воевали капитаны и майоры, лишенные званий и наград за различные воинские преступления, его не смущало. О прошлом бойцов думать было некогда. Форма на всех точно такая же, какую носила его Седьмая стрелковая. Все приказания и распоряжения старших по званию и должности исполнялись тут же, и без заминок и пререканий. А это главное.
Несколько раз Нелюбину попадался на глаза Кац. Но это был уже другой человек. Казалось, солдатская шинель бывшему младшему политруку пришлась вполне, и он, стоя в ячейке, так же, как и остальные бойцы взвода, вел огонь из винтовки по мелькавшим впереди фигуркам немецких пехотинцев, когда те поднялись в очередную атаку прямо по фронту Третьей роты.
В первый день немцы контратаковали дважды. Первую отбили сами. А вторую совместно с артиллеристами. Как только цепи, сопровождаемые полугусеничными бронетранспортерами с крупнокалиберными пулеметными установками, вышли из оврагов и из-за лесополосы, капитан Симонюк быстро передал за Днепр координаты. Через минуту, вот она, прилетела первая стая тяжелых снарядов и легла вразброс по всему фронту атакующих. Капитан тут же передал поправку. И гаубицы за десять минут раскромсали густую цепь наступающих. Вначале немцы попытались форсированным броском вперед миновать полосу огня, но Симонюк внимательно следил за их продвижением. Под таким обстрелом не в атаку ходить, а только спасаться, пересиживать, согнувшись в три погибели в окопе и молиться, чтобы он выдержал и не обвалился тебе на плечи и голову.