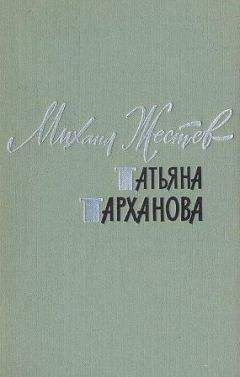Михаил Стельмах - Большая родня
— Мало понравились. Узенько смотрят на мир. Придется пощипать их. В особенности старого, — это, кажется, спецхвастун. Он и землю и науку может, как кувшины, прикрыть бумажками. К тому же еще какие-то сомнения грызут старика. А какие — не ухватил, — неохотно ответил Иона. Неприятные воспоминания передернули его подвижное лицо. — Молодой — ничего парень, только несмелый, очевидно, за авторитеты обеими руками держится.
Мелиораторы вошли в кабинет.
— Олег Фадеевич Чепуренко, — горделиво отрекомендовался немолодой дородный мужчина. Массивная лобастая голова его суживалась книзу и заканчивалась конусом блеклой травянистой бородки.
— Владимир Слободенюк, — поклонился худой юноша с большими задумчивыми глазами.
— Просим, садитесь. Как вы съездили?
— Напрасно убили время. Ваш заврайземотделом большой оптимист, — заколебалась на белой рубашке бородка Олега Фадеевича.
— А вы большие пессимисты?
— Нет, мы люди реальности и точности.
— Так это совсем хорошо.
— Неплохо, — пренебрежительно согласился Чепуренко. — Наука любит точность, а не всякие поэтические излияния.
Слободенюк поморщился. Ионе показалось, что молодому специалисту не раз приходилось слышать эту менторскую сентенцию из уст старшего коллеги.
— Любая наука, если она наука, поэтична, — осторожно поправил Павел Михайлович.
— Ну, это выдумки ловких поэтов и фантазеров, примазывающихся к науке, — беспрекословно и уверенно отрубил Чепуренко.
— Я с большим уважением относился бы, например, к Ломоносову, Менделееву, Лобачевскому.
Тень бородки Чепуренка юлой завертелась на его широкой груди, а взгляд изумленно и вместе с тем со скрытым недоверием вперился в секретаря райпарткома. Павел Михайлович спокойно перехватил это раздвоение в глазах немолодого мужчины.
— А Вильямс, Мичурин, по-вашему, не поэты? Они в горькую воспетую землю не стон, не безнадежность песни, а сердце свое, как наиболее дорогое зерно, вложили. И мир увидел землю другой, какой она станет завтра для нас, для всего человечества. Так это, по-вашему, не поэзия? Ученый, не имеющий поэтической фантазии, — это сумка старца, набитая кусками фактов. А творец — всегда поэт… Вы знаете, что Ленин на одиннадцатом съезде партии о фантазии говорил?
— Нет, не знаю, — искренне признался Чепуренко. — Неужели Ленин о фантазии на съезде говорил? — глубокое удивление смягчило неприятную самоуверенность.
Павел Михайлович подошел к шкафу с книгами, достал том в красной обложке, быстро нашел нужное место и негромко, четко выделил каждое слово:
— «…Даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество наибольшей ценности…»
— Сдаюсь, сдаюсь! — поднял вверх обе руки Чепуренко.
Чабану и Слободенюк засмеялись.
— Вы, Павел Михайлович, серьезный оппонент, — уже с уважением промолвил Чепуренко. Голос его стал мягче. — С вами нелегко спорить. Памятью, памятью берете…
— Павел Михайлович правдой берет, истиной. Память немного ниже стоит, — поправил Иона, который терпеть не мог неточности в определениях.
— Это само собой, — великодушно согласился Чепуренко.
— Вы, может, познакомите меня со своими планами? — обратился Павел Михайлович к мелиоратору, стараясь уменьшить трения между ним и Ионой.
— Миссия наша очень скромная: мелиоративное общество послало нас открыть новую землю.
— Колумбы! — не выдержал Чабану, и складки насмешливо задрожали у рта.
— Сейчас наше мелиоративное общество, — невозмутимо продолжал Чепуренко, — не имеет соответствующих средств, и оно хочет, чтобы мы у вас провели одну операцию так, как в пьесе сказано: хитро, мудро и недорого.
— Государству дорога каждая копейка. И если мудрость поможет сэкономить средства — это хорошая мудрость. Что же вы придумали?
— Есть у вас такая круглая площадь — четыре квадратных километра, которую легко осушить.
— Что-то не припоминаю такого болота или поймы, — подошел Павел Михайлович к большой карте района.
— Это не болото, а… ставок.
— Вы что?.. Шутите? — Павел Михайлович повернулся от карты, застыл на месте, собранный и суровый.
— Чего нам жалеть это вечное украшение дворянско-помещичьего пейзажа? Мы быстро спустим воду… — но, взглянув на Павла Михайловича, осекся и, уже смущаясь, прибавил: — Об этом и в обществе говорилось.
— Специалистами?
— Специалистами.
— И сердце ваше тогда ровно билось? — металлически падает взволнованное и возмущенное слово. — Вы в будущее или в черное прошлое заглянули тогда?
— Я не понимаю, к чему это…
— Так мы понимаем, к чему, — вставил Иона.
Чепуренко нервно зажал бородку в кулак; на его лице, как ветряные лишаи, выступили кружочки пятен.
— Я честно служу в своем учреждении.
— Не видим. Вы знаете, что означает спустить пруды? Это означает на нашем языке — вредительство. Вы с этим согласны? — обратился Павел Михайлович к Слободенюку.
— Согласен, Павел Михайлович, — заволновался юноша. Румянец плеснулся через все его лицо.
— Вы член партии?
— Комсомолец.
— За чем же вы в своем учреждении смотрите?
— Я только в этом году окончил гидромелиоративный институт. Недавно поступил на работу.
— Вы тоже недавно работаете? — хмурясь, обратился к Чепуренко.
— Нет, у меня стаж.
— И солидный?
— Солидный, — невольный вздох вырвался из груди Чепуренко. Теперь все его самоуверенное превосходство разбрызгалось до последней капли. Лицо стало задумчивым и лучшим. — О вашем ставке я пробовал спорить, но…
— Побоялись пойти на конфликт? — Павел Михайлович дольше остановил взгляд на массивной голове Чепуренко. Шевельнулось сравнение: «У него и дела построены как лицо — сначала широко размахнется, а потом сузится, как клин бородки».
— Побоялся, — чистосердечно признался. — Я человек не молодой, отягощенный семьей. Место не очень хочется менять.
— Значит, закон вашей жизни — теплое место, мир и гнилая тишина?
— Не совсем так, но грешки есть.
— И это называется честной службой?
Чепуренко только вздохнул, а Павел Михайлович выделил каждое слово:
— Закон нашей жизни один: верно служить партии Ленина-Сталина, верно служить своему государству. Другого закона для нашей совести нет.
— Это великая правда, Павел Михайлович, — обмякший Чепуренко встал со стула.
— Вы ученый человек, который все свое знание может отдать народу! А вы вместо горячего сердца привозите нам холодную жабу. Неужели все мечты, все свои силы вы раструсили, засушили в мертвых кабинетах? Какие же у вас могут быть логические обобщения, ощущение реальности, когда столь грешна ваша практика?
— Ошибся, Павел Михайлович. Семипал, наш начальник, прямо пихал в болото.
— Это он проповедует осушать пруды?
— Он, он! Только не передайте, что я говорил…
— Не бросайте камень в наш тихий ставок, — прервал Иона жалобу Чепуренко. — Нет, Олег Фадеевич, прокисли вы фундаментально. Если так будете жить, не вам осушать болота; увязнете в самой страшной грязище.
Губы Чепуренко искривились, у переносицы зашевелилась вязь подсиненных мешочков; казалось, все его лицо взялось паутиной. Не пряча глаз, как-то растерянно и просительно посмотрел на Павла Михайловича.
— За несладкую науку благодарю. Признаюсь, все эти дни меня мучила плюгавенькая интеллигентская неуверенность. Сам люблю пруды, озера. А здесь модные словца пошли в нашем учреждении: уничтожать украшения дворянских гнезд. Я пробовал свою мысль вставить, но Семипал забил меня потоком сверхортодоксальных слов. «Может, я старый, не все уже понимаю», — подумал и, сжав сердце, поехал к вам. Свою неуверенность хотел дерзкой самоуверенностью заглушить. Самому противно за свой тон. И перед вами, и перед молодым поколением, — положил завядшую руку на плечо Слободенюка. — Не знаю, что вы обо мне думаете, но на самом деле я не такой, каким вошел в ваш кабинет… В деле увидите меня.
— Вы серьезно думаете у нас работать? — сосредоточенно спросил Павел Михайлович мелиораторов.
— Серьезно, — ответил Слободенюк.
— Я всей душой. Пусть разрешит общество…
— Разрешит. Тогда в первую очередь вам придется осушать одно подлесное болото. Недалеко от него работает молодой коллектив. Члены его — все до одного комсомольцы.
— Комсомольцы!? — обрадовался Слободенюк. — Я завтра же поеду к ним.
— Стоит. У них многому можно научиться. Ясные умы и золотые руки у нашей молодежи… А вы знаете, как наше Подолье в старину называлось? — неожиданно спросил Павел Михайлович мелиораторов, и лицо его стало совсем светлым.