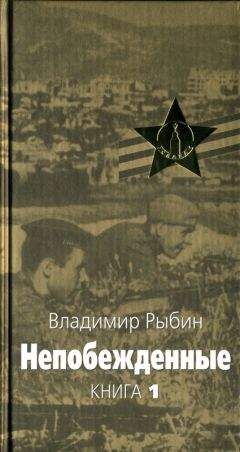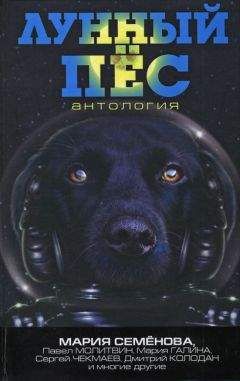Мария Рольникайте - Свадебный подарок, или На черный день
Закрылась одна створка ставен. Вторая. Опять стало темно.
Ночью хозяин уведет его отсюда. Просто уведет. Капитан вряд ли приказал его ликвидировать. Ведь он не против, чтобы ему помогали «тушить пожар».
Они шли уже добрый час, когда старик неожиданно остановился.
— Не говорите никому, добрый человек, что я ослушался господина капитана. — И стал развязывать узел, которым была стянута тряпка на глазах. — Но раз вам нельзя воротиться в наши края, то как же, не зная дороги, которая запрещена, обойти ее?
— Спасибо. Сердечное вам спасибо.
— Свою я душу спасаю. Чтобы потом, ежели что плохое с вами случится, не я был виноват.
— Не вы. Не ваша вина в том, что происходит.
— Видите, вон крест на горке. От него вам надо идти только прямо. Там лес. Боже вас упаси свернуть налево.
— Владения вашего капитана?
Старик как будто не понял вопроса. Шел, опустив голову.
— Когда-то, говорят, мертвый барин, дед нынешнего господина капитана, темными ночами, особенно перед грозой, людям являлся. Всех погубить грозился за то, что поместье сжечь хотели. А когда крест этот поставили — перестал являться.
— Значит, капитан — местный?
— Местный. Только пока военным был, еще в прежней, президентской армии, редко наведывался. А при Советах, когда ихнюю землю беднякам роздали, и вовсе не приезжал. Кто объяснял, что морем в Швецию уплыл, кто божился, что в городе его видел. А при немцах вдруг опять появился. С Красной Армией не отступил.
Спросить, большой ли у него отряд, или не пугать старика расспросами?
— Землю немцы ему вернули?
— Вернули…
Похоже, старик — один из тех, кто тогда ее получил.
— И он что, мстит тем, кому его земля досталась?
— Нет. Против тех, кто не просил господской земли, а взял, потому что все равно раздавали, говорит, ничего не имеет. За то, что засеяли, — рассчитался. Справедливый он. А что остальных, которые эту землю требовали… Так ведь сказано — не надо желать добра ближнего своего. Справедливый он человек… — И тут спохватился: — К своим справедливый.
— Возможно.
— Господин ведь, и немцы его не трогают. Мог спокойно жить, а собирает людей, чтобы против них, значит…
Выходит, он еще только собирает? И все-таки не удержался, спросил:
— А много у него людей?
— Не знаю. Не мое это дело. Мне что велено, то делаю. Вас, вот, велено довести до леса — доведу. И дай вам Бог встретить там своих.
— Спасибо.
— Только не говорите вы им про нашего господина капитана. У большевиков зло на него, что не с ними он. А если люди друг на друга зло держать будут, одна только вражда на земле и останется. Одни убийства, что на войне, что без войны.
— Вы правы. Конечно же, правы. Ничего нет хуже вражды.
— И сами на господина капитана за то, что он с вами так… не держите зла.
Старик опять остановился, снял с плеч торбу.
— Тут вам старуха хлеба положила. Квашеной капусты. А я, вот, топорик и кремень припас. Чтобы костер разжечь. Только вы его подальше от дороги разводите. И под самое утро, когда полицаи все свои дела закончили, а люди еще не встали.
— Спасибо. — Старик растерялся, когда он протянул ему руку. Неловко вытер свою об тулупчик и подал. — Еще раз — спасибо.
Старик хотел что-то сказать, но лишь потоптался и пошел. Потом обернулся и перекрестил его: — Пусть Бог вам поможет.
Эпилог
Не помог.
Мой отец, Виктор Зив, погиб в партизанском отряде «Путь к победе».
Девочка, которую родила Алина, — это я. Юлькина тетя и, следовательно, сестра Яши. Яши, а не Яника — так себя называть он позволял только маме и Ядвиге Марчуковой. После их смерти и имя это вернулось в тогдашние годы, о которых он не любит вспоминать.
А на Юлькиной свадьбе, как и положено на свадьбе, было весело.
Правда, вначале Юлька сидела непривычно серьезная. В витринно-нарядном кружевном платье, в длинной нейлоновой фате. Она сосредоточенно внимала каждому пожеланию. Но уже после третьего тоста в ее счастливых глазах появились знакомые смешинки, а значит, не исключено, что при очередной назидательной речи она может рассмеяться. Хорошо, что Володины друзья вовремя кричали: «Горько!» Юлька, мгновенно забыв о только что распиравшем ее смехе и ничуть не стесняясь, с удовольствием целовалась.
Танцевала она тоже с упоением. Обмотав хвост фаты, чтобы не мешал, вокруг шеи и, заткнув чрезмерную длину платья за пояс, она выделывала нечто среднее между хула-хупом, аэробикой и танцем какого-то древнего африканского племени.
Только когда все снова сели за стол, пришел приглашенный все той же предусмотрительной Володиной тетей фотограф («свадебные снимки — на всю жизнь, нельзя полагаться на любителей»). Юлька на мгновенье стала серьезной. И именно в это мгновенье я вдруг увидела, как она похожа на нашу маму. Не ту, больную, седую, какой я ее знала, а очень молодую маму со свадебного снимка, на котором она — улыбающаяся, в белом платье — сидит рядом с нашим папой — красивым, черноволосым, тоже улыбающимся.
Наша мама поседела еще до моего рождения. Хозяйка ее тогда выгнала, другого прибежища найти не удалось, она пешком добиралась в деревню к Каролине, крестной дяди Феликса. По дороге угодила полицейским в руки, бежала из транспорта, который везли в Германию. Что с нею, пока добиралась до Каролины, еще было, даже мне не рассказывала. Только пришла она в деревню совсем седая.
А на свадебный снимок, сохранившийся у Феликса, мама смотрела часто и подолгу. Не только в годовщину свадьбы. И в папин день рождения, и в бабушкин, и в Ноймин. Ставила его на этажерку, а рядом, даже зимой — какую-нибудь зеленую веточку. И каждый раз сокрушалась, что из такой большой семьи — и ее, и папиной — осталась только она одна. А из всех друзей, в молодости казавшихся близкими, только Феликс и Мария в самый трудный час жизни не оставили их.
А ведь я после маминой смерти ни разу этого снимка не доставала. И дней рождений, кроме маминого, не знаю. Не запомнила…
Там, на снимке, рядом с новобрачной — дедушка с бабушкой. Здесь — Люба и Яша. Они моложе. Впрочем, ненамного.
Странно, что этот полноватый лысеющий мужчина — тот самый Яник, которого в гетто прятали в сундук; это он мерз в темном подвале; в приюте боялся проговориться, что у него есть родители. Он — тот самый босоногий деревенский мальчишка, который, когда мама его наконец нашла на далеком хуторе, вцепился Марчуковой в юбку и кричал: «Не отдавай меня этой тете! Не отдавай! Это чужая тетя!»
Мама уверяла, что ей даже не было больно, так мало этот выросший остриженный наголо мальчик напоминал прежнего Яника.
Но и потом, вернувшись — конечно же, вместе с тетей Марчуковой — в город и давно живя с нами, он, уже школьником, целыми днями пропадал у нее. Грех говорить, но, кажется, всю жизнь она ему в чем-то была ближе мамы. И мама, думаю, это чувствовала.
Будь они обе живы, они бы теперь сидели рядом с Яшей.
А Феликс с Марией на том снимке — почти на том же месте, что и тут. Но совсем молодые, не похожие на себя теперешних. Там дядя Феликс стоит с поднятым в руке фужером, видно, когда снимали, произносил тост. Наверно, так же, как сейчас этот долговязый Володин товарищ, желал новобрачным счастья и долгих лет жизни.
Феликс не только пожелал долгой жизни. Они с Марией ее и спасали. Но смогли спасти только нас троих.
Вернувшись в город, мама обошла все соседние с подвалом дома. Искала Монику. Но никто ничего не знал. Да и маме было очень трудно объяснить, кого она ищет, ведь тогда она еще даже имени ее не знала. И если бы не глуховатая прислуга какой-то убежавшей с немцами «рыжей пани», мама не узнала бы ни имени их первой спасительницы, ни того, что Моника погибла перед самым освобождением города, на фабрике. Туда упала бомба.
Господи, как громко включили музыку! Впрочем, молодым она не кажется громкой. Весело же, свадьба. И Юлька, опять совсем не похожая на маму, танцует вместе со всеми.
Подаркам она радовалась, как маленькая. Особенно огромному мишке в целлофане. А перевязанные шелковыми ленточками скатерти, коробочки, особенно кухонная утварь вызвали удивление. Будто только теперь осознала, что всем этим придется пользоваться. Я тоже пока трудновато представляю себе Юльку в роли хозяйки.
А мой подарок вызвал у нее удивление. На самом деле — нечто, похожее на книгу, но без названия на сплошном черном переплете, без фамилии автора и с замочком, как на старинных альбомах. При этом я еще попросила сейчас его не открывать.
— Что это?
— Потом посмотришь. — И для верности повторила: — Потом.
Когда она ее раскроет, там найдет и тот давний свадебный снимок. Пусть вклеит его в свой альбом. Каждая страница в ее альбоме — это оборванная жизнь. А сколько таких альбомов может быть…
Юлька опять перехватила мой взгляд на столик с подарками.