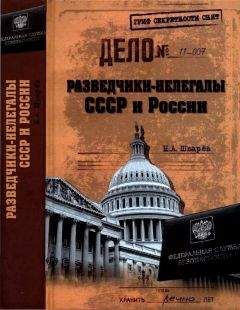Даниил Гранин - Это мы, Господи. Повести и рассказы писателей-фронтовиков
— Ладно, вы идите. Берите тех, — кивает он на немцев, — и дуйте напрямки. Я догоню.
Он говорит это почти по-приятельски, и я не знаю, как понимать его: то ли это заявка на дружбу, то ли он, возможно, видит во мне здесь старшего. Но ведь Кротов старше меня по званию и должность у него постоянная, не то что у меня, временного ротного. Я вопросительно поглядываю на комбата, тот недовольно бросает «идите», и я поворачиваюсь к озябшим немцам:
— А ну марш! Марш, фрицуки пархатые!
Глава четвертая
Через минуту мы идем в кукурузе по следу глубоко вдавленных в снег танковых гусениц: Кротов и я — по правой колее, а немцы напротив — по левой. Кротов никак не может примириться со снятием его с должности и зло, в три этажа ругается. Гнев его, как и всегда, имеет определенный адрес и теперь направлен против комбата.
— Обормот! Лакейская морда!..
Немцы покорно шагают рядом — очкастый в мундирчике впереди, за ним тот, что без шапки, — мрачный чернобровый парень, внешностью вовсе не похожий на немца. Пожилой же с трудом ковыляет сзади, то и дело отстает, шмыгая большим простуженным носом. К плену он хорошо подготовился, сразу узнаешь хозяйственного человека — на ремне котелок, фляжка, через плечо перекинуто свернутое в скатку одеяло, на боку висит, похожая на охотничий ягдташ, брезентовая сумка. Неудивительно, что и отстает с таким грузом, и я, время от времени оглядываясь, с нарочитой строгостью покрикиваю:
— Шнель! Шнель, фриц!
Передний в очках также поворачивается и, будто старший среди них, что-то лопочет последнему. Я понимаю только:
— Шнеллер, камараде…
Пожилой несколько ускоряет шаг, разбрасывая коленями заснеженные полы шинели, и ворчит про себя. Кажется мне, в том смысле, что, мол, хорошо тебе, молодому, легко одетому, а я уморился уже, хочу закурить, да и вообще по самое горло сыт войной и фашизмом. Это вполне естественно для него, так как год уже сорок четвертый и немцы на фронте далеко не те, что были в сорок первом.
Передний чем-то похож на унтера, хотя китель на нем без всяких знаков различия. Лицо у него продолговатое, в меру худощавое, с прямым носом и широким лбом — типичное немецкое лицо с сильно развитой нижней челюстью. Под толстыми стеклами очков — настороженные, но, кажется, рассудительные, без злобы глаза. Простоволосый же, что идет следом, выглядит уж очень унылым и мрачным. За все время он не произнес ни единого слова и ни разу не взглянул ни на кого.
Кротов с виду явно безразличен к пленным и то помолчит, то снова начинает ругаться:
— Чуть что из полка — и он уже на задние лапки. Своего мнения не имеет…
Мне кажется, это напрасно. Не такой уж комбат наш и угодливый, каким его представляет теперь обиженный ротный, — просто перед старшими пасует малость, как, впрочем, и многие в армии. Желая несколько смягчить его гнев, я обнадеживаю Кротова.
— Может, надолго не задержат там, — говорю я, имея в виду полковой штаб, куда его вызывают. — Напишете объяснительную и завтра будете в роте.
— А мне наплевать! Пусть задерживают. Что мне, в тылу хуже, чем на передовой? Я о том, почему они придираются сдуру.
— Бдительность.
— Бдительность! Дурость это, а не бдительность. Делать ему нечего, этому бабнику, вот он и цепляется. Ну влезли впотьмах в деревню, не разглядели, не разведали. Так что тут особенного? Что в этом преступного? Ведь ни одного человека не погубили. Разве лучше, если бы в степи пообморозились? Или как тот дурень Сарафьянов — за два дня всю роту уложил? — рассуждает Кротов, уже не оглядываясь на меня.
Я молча несу на плече свой ППС, глядя на сапоги ротного, которые мнут туго спрессованный снег гусеничного следа. Походка у Кротова энергичная и легкая, какая бывает только у закаленных пехотинцев. Старший лейтенант не признает полушубков и с осени ходит в туго перетянутой ремнями телогрейке. На руках у него теплые овчинные рукавицы на тесемке, перекинутой через шею, и он в гневе широко размахивает ими.
— Приказано атаковать, ну и атаковал. Пока восемь человек не осталось. Небось его за это в особый отдел не потащат!
Да, за это, пожалуй, не потащат, соглашаюсь я. Напротив, могут представить к ордену за усердие и настойчивость в выполнении боевого задания. Кому там разбираться, что Сарафьянов набитый дурак и горлопан, что его давно надо гнать из батальона? Но комбат наш все же не такой, вообще он неплохой командир, не крикун и не трус. Разве что излишне тянется перед начальством. Однако в армии таких принято считать дисциплинированными.
Кротов, будто угадав мои мысли, возражает:
— Дисциплинированный. Перед каким-то там старшиной расшаркивается, папиросочками угощает. Забыл, что и капитан, что и командир батальона. И если подумать, кто этот старшина? Холуй, самый настоящий.
Я молча вздыхаю. Да, конечно, старшина — невелика шишка, штабной писарь, но вся беда в том, что писарь не простой, не из какой-нибудь хозчасти или финсектора, а помощник и доверенное лицо капитана Сахно.
На повороте танковой колеи я оглядываюсь. Мы прошли по кукурузе уже далеко, батальонная колонна без следа исчезла в вечерней степи. Шашка почему-то нигде не видать. Но ведь старшина догонит, это нетрудно по хорошо приметному следу, а ночь обещает быть светлой. Еще не успело стемнеть, а на безоблачном морозном небе уже вовсю светит цыганское солнце — месяц. Хуже вот, что третий, пожилой, немец все время отстает, видно, уморился и на мое строгое «шнель» почти не реагирует. Тогда я бросаю Кротову: «Стой!» Надо подождать, так как все же настает ночь и я, признаться, немного беспокоюсь, как бы этот фриц ненароком не шмыгнул в кукурузу. Старший лейтенант недовольно останавливается, охотно прекращают шаг немцы, и все мы ждем, пока добредет по колее их «камарад». Кротов, наверное, уже примирился с моим тут командирством, и все же, чтобы смягчить некоторую неловкость, я достаю из кармана два сухаря.
— Хотите погрызть?
Завтракали мы на рассвете еще в Северинке, уже крепко проголодались за день, и потому сухарь кажется необычайно вкусным. Я слышу, как Кротов с наслаждением откусывает от него, и с пол минуты мы сосредоточенно грызем жесткие куски. Потом невольно поглядываем на немцев, стоящих напротив, и перехватываем пристальный взгляд очкастого. Жесткий кадык на его длинной шее скользит вверх и вниз. Кротов перестает жевать.
— Что, доняло? — будто впервые заметив пленного, язвительно говорит он. — Навоевался, собачий сын? Жрать захотелось? Держи!
Старший лейтенант разламывает сухарь и бросает кусок очкастому. Тот, сноровисто подхватив его, с удовольствием вгрызается зубами. Рядом сдержанно стоит второй, без шапки, и я засовываю руку в карман. Там еще один кусок сухаря, последний из моей сегодняшней нормы, и я не без сожаления протягиваю его через дорогу. Немец секунду медлит, потом берет сухарь и, отставив нижнюю губу, неопределенно чмыхает. Я не успеваю сообразить, в чем дело, как он коротким взмахом через плечо швыряет сухарь в кукурузу.
Кротов перестает жевать. Какое-то время он молчит с желваком за щекой, потом, изломив одну бровь, шагает между колеями в снег:
— А ну подбери!
Немец, насупившись, молчит и не трогается с места.
— Подбери, гнида! — жестко приказывает Кротов и, выждав, коротко бьет его в челюсть.
Пошатнувшись, тот, однако, удерживается на ногах, и старший лейтенант кричит почти в бешенстве:
— Сволочи! Вши ползучие! Мою деревню сожгли! Из-за вас меня начальство таскает! На еще, гад!
Немец снова отшатывается, хватаясь рукой за щеку, но так ничего и не произнеся. Своенравное упрямство его и во мне отзывается неподвластной озлобленной вспышкой. Какая-то животная ненависть так и подмывает заехать ему по морде, как это сделал Кротов, и я, чувствуя, что не сдержусь, делаю шаг к Кротову:
— Ладно. Оставьте его!
Пожилой тем временем догоняет нас и, видно смекнув, в чем дело, услужливо лезет в кукурузу. Сдунув с сухаря снег, он почтительно подносит его разъяренному Кротову. Тот бьет немца по руке, и сухарь отлетает в снег еще дальше.
— Прочь! Прочь, гады! Я вас всех сейчас!..
Ротный хватается за кобуру на ремне, и я едва успеваю остановить его:
— Бросьте! Ну их к чертовой матери.
Смерив всех троих ненавидящим взглядом, Кротов неохотно переходит в правую колею.
Вот же гад фашистский, думаю я, приотстав и украдкой наблюдая за немцем. Волосы у того черные, жесткие, к ушам он и не притронется, будто и не ощущает мороза. За всю дорогу не произнес ни одного слова, ни разу не взглянул на нас. Во всей его фигуре чувствуется опасный, затаившийся враг. После случая с сухарем я невольно настораживаюсь и передвигаю свой ППС на грудь: мало ли что еще может выкинуть этот злыдень!
Степь затихает к ночи, но все же множество неясных разрозненных звуков свидетельствует о присутствии вокруг огромной силы войны. Идет наступление. Отзвуки его то и дело доносятся до слуха приглушенным танковым гулом, конским ржанием, далекими взрывами. Где-то на юге, за Кировоградом, пылает край неба: огненное зарево на небосклоне то ширится, разгораясь, то медленно притухает. Откуда-то долетают невнятные голоса людей, наверно, поблизости проходит дорога. Всюду в степи движение, выстрелы, люди. Из кукурузы, правда, мы не много вокруг себя видим…