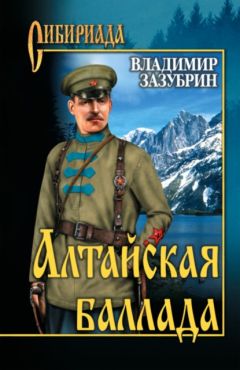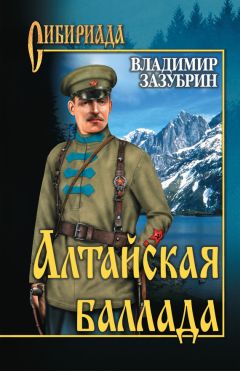Владимир Зазубрин - Два мира (сборник)
– Белые сорочки, товарищ Маркс, черт бы вас побрал.
Со злобой, с болью схватил четверть, стакан, тяжело подошел к дивану. «Ишь жмется, аристократ. На вот тебе». Нарочно сапоги не снял. Растянулся и каблуками в ручку. На пепельно-голубой обивке грязь, кровь и снежная мокрота. Четверть, стакан рядом на пол поставил. А самому хочется с головой в реку, в море и все, все смыть. Уже лежа еще полстакана в рот жгучего, неразведенного. И в мозгу, пьянеющем от спирта, от подвального угара, от усталости, от бессонницы почти пьяные, почти бессвязные мысли:
– Почему, собственно, белая сорочка Маркса?
Ведь одни из них – поумереннее и полиберальнее – хотели сделать Ей аборт, другие – пореакционнее и порешительнее – кесарево сечение. И самые активные, самые черные пытались убить и Ее, и ребенка. И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодовитую, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку.
Потом, что такое колчаковская контрреволюция? Это небольшая комната, в которой мало воздуха и много табачного дыма, водочного перегара, вонючего человечьего пота, в которой письменный стол весь в бумагах – чистых и исписанных, в бутылках – пустых и непочатых со спиртом, с водкой, в нагайках – ременных, резиновых, проволочных, резиново-проволочно-свинцовых, в револьверах, в бебутах, в шашках, в гранатах. Нагайки, револьверы, гранаты, винтовки, бебуты и на стенах, и на полу, и на людях, сидящих за столом и спящих под ним и около него. Во время допроса вся комната, пьяная или с похмелья, набрасывается на допрашиваемого с ремнями, с резинами, с проволокой, со свинцом, с железом, с порожними бутылками, рвет его тело на клочья, порет в кровь, ревет десятками глоток, тычет десятками пальцев с угрозой на дула винтовок.
Колчаковская контрразведка – еще другая комната. В той письменный стол в зеленом сукне и бумагах. За столом капитан или полковник с надушенными усами, всегда вежливый, всегда деликатный – тушит папиросы о физиономии допрашиваемых и подписывает смертные приговоры.
Ну вот вам и белая сорочка Маркса, брезгливый диван, чопорная чистота безделушек на столе.
Ну да, да, да, да, да… Да… Да… Да… Но… Но и но…
Сладко пуле – в лоб зверя. Но червя раздавить? Когда их сотни, тысячи хрустят под ногами и кровавый гной брызжет на сапоги, на руки, на лицо.
А Она не идея. Она – живой организм. Она – великая беременная баба. Она баба, которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить.
Да… Да… Да…
Но для воспитанных на римских тогах и православных рясах Она, конечно, бесплотная, бесплодная богиня с мертвыми античными или библейскими чертами лица в античной или библейской хламиде. Иногда даже на революционных знаменах и плакатах Ее так изображают.
Но для меня Она – баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. Люблю за то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая кровяная лава, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца – как подземные удары вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке. И вот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов – много их присосалось – в подвалы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить. И вот гной из них, гной, гной. И вот опять белая сорочка Маркса. А с улицы к окну липнет ледяная рожа мороза, ломит раму. И за окном термометр, на который раньше смотрел купец Иннокентий Пшеницын, падает до минус сорока семи Р.
В кабинете Иннокентия Пшеницына, теперь Срубова, мутный рассвет. Но дом Иннокентия Пшеницына, теперь Губчека, не знает, не замечает рассветов, сумерек, ночей, дней – стучит машинками, шелестит бумагой, шаркает десятками ног, хлопает дверьми, не ложится, не спит круглые сутки.
И в подвалах № 3, 2, 1, где у Иннокентия Пшеницына хранились головы сыру, головы сахару, колбасы, вино, консервы, теперь другое. В № 3 в полутьме на полках, заменяющих нары, головами сыра – головы арестованных, колбасами – колбасы рук и ног. Как между головами сыра, как между колбасами, осторожно, воровато шмыгают рыжие жирные крысы с длинными голыми хвостами. Арестованные забылись чуткой дрожащей дремотой. Чуткой дрожью усов, ноздрей, зорким блеском глаз щупают крысы воздух, безошибочно определяют уснувших более крепко, грызут у них обувь. У подследственной Неведомской отъели мех с высоких теплых галош.
И крысы же в подвале № 1, где уже убраны трупы, с визгом, с писком в драку, лижут, выгрызают из земляного пола человечью кровь. И языки их острые, маленькие, красные, жадные, как языки огня. И зубы у них острые, маленькие, белые, крепче камня, крепче бетона.
Нет крыс только в подвале № 2. В № 2 не расстреливают и не держат долго арестованных, туда сажают только на несколько часов перед расстрелом.
И в сыром тумане мороза, в мути рассвета на белом трехэтажном доме красными пятнами вывеска – черным по красному написано: «Губернская Чрезвычайная Комиссия». Ниже в скобках лаконичнее, понятнее: «Губчека». А раньше золотом по черному: «Вино. Гастрономия. Бакалея. Иннокентий Пшеницын».
Над домом бархатное, тяжелое, набухшее кровью красное знамя брызжет по ветру кровавыми брызгами обтрепавшейся бахромы и кистей.
И, сотрясая улицы, дома и кладбище, везет чекистов с железными лопатами последний серый грузовик в кроваво-черном поту крови и нефти. Когда он, входя в белый подъезд, топает тяжелыми стальными ногами, белый каменный трехэтажный дом дрожит.
3
Ночами белый каменный трехэтажный дом с красивым флагом на крыше, с красной вывеской на стене, с красными звездами на шапках часовых вглядывался в город голодными блестящими четырехугольными глазами окон, щерил заледеневшие зубы чугунных решетчатых ворот, хватал, жевал охапками арестованных, глотал их каменными глотками подвалов, переваривал в каменном брюхе и мокротой, слюной, потом, экскрементами выплевывал, выхаркивал, выбрасывал на улицу. И к рассвету усталый, позевывая со скрипом чугунных зубов и челюстей, высовывал из подворотни красные языки крови.
Утрами тухли, чернели четырехугольные глаза окон, ярче загоралась кровь флага, вывески, звезды на шапках часовых, ярче кровавые языки из подворотни, лизавшие тротуар, дорогу, ноги дрожащих прохожих. Утрами белый дом навязчивей, настойчивей металлическими щупальцами проводов щупал по городу дома с пестрыми вывесками советских учреждений.
– Говорят из Губчека. Немедленно сообщите… Из Губчека. В течение двадцати четырех часов представьте… Губчека предлагает срочно, под личную ответственность… Сегодня же до окончания занятий дайте объяснение Губчека… Губчека требует…
И так всем. И все дома с пестрыми вывесками советских учреждений, большие и маленькие, каменные и деревянные, растопыривали черные уши телефонных трубок, слушали внимательно, торопливо. И делали так, как требовала Чека – немедленно, сейчас же, в двадцать четыре часа, до окончания занятий.
А в Губчека – люди, вооруженные винтовками, стояли на каждой площадке, в каждом коридоре, у каждой двери и во дворе, люди в кожаных куртках, в суконных гимнастерках, френчах, вооруженные револьверами, сидели за столами с бумагами, бегали с портфелями по комнатам, барышни, ничем не вооруженные, красивые и дурные, хорошо и плохо одетые, трещали на машинках, уполномоченные, агенты, красноармейцы батальона ВЧК курили, разговаривали в дыму комендантской, прислуга из столовой на подносе разносила по отделам жидкий чай в рыжих глиняных стаканах с конфетами из ржаной муки и патоки, посетители в рваных шубах (в Чека всегда ходили в рванье. У кого не было своего – доставали у знакомых) робко брали пропуски, свидетели нетерпеливо ждали допроса, те и другие боялись из посетителей, из свидетелей превратиться в обвиняемых и арестованных.
Утрами в кабинете на столе у Срубова серая горка пакетов. Конверты разные – белые, желтые, из газетной бумаги, из старых архивных дел. На адресах лихой канцелярский почерк с завитушками, с росчерком, безграмотные каракули, нервная интеллигентская вязь, старательно выведенные дамские колечки, ровные квадратики шрифта печатных машинок. Срубов быстро рвал конверты.
«Не мешало бы Губчека обратить внимание… Открыто две жены. Подрыв авторитета партии… Доброжелатель».
«Я, как идейный коммунист, не могу… возмутительное явление: некоторые посетители говорят прислуге – барышня, душечка, тогда как теперь советская власть и полагается не иначе, как товарищ, и вы, как… Необходимо, кому ведать сие надлежит…»
Срубов набил трубку. Удобнее уселся в кресле. Пакет с надписью – «Совершенно секретно», «В собственные руки». Газетная бумага. Разорвал.