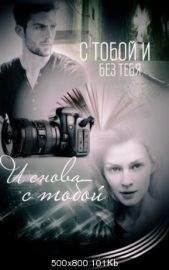Ольга Кожухова - Донник
Вот утих на мгновение напор ветра, и они стоят снова как ни в чем не бывало, спокойные, гордые, на своих шишковатых, чешуйчатых курьих лапах, утопая корнями-когтями в сухой, мерзлой корке сугробов, важно шепчутся о чем-то друг с другом.
Здесь можно увидеть и деревья-калеки — боевых ветеранов, и молоденьких новобранцев. А вот выстроились по ранжиру, как сверхсрочники на вечерней поверке, непоклонные, молчаливые, отслужившие службу… и попавшие на войну.
Иногда от живого, зеленого дерева остается одна только черная пика обугленного ствола, и не верится в будущих птиц по весне, в развернувшуюся листву из посеченных этих веток, из обугленных крон. Вон стоит большая береза, устремив в золотое вечернее небо обожженные ветки. Ей уже не ожить. Может быть, наплывут на коре грубоватые наросты, но ветвей и плакучих развесистых кос уже больше не будет. Вот пенек от сосны, размозженной снарядом. Вот изрезанная осколками, вся покромсанная осина. Ее сучья легли по земле полукругом: как ударил снаряд, так с осколками и летели почти радиально. И еще долго-долго на черной от гари поляне будет пахнуть свежим соком земли, истекающим вместе с душистой смолою и посеченной хвоей, горьковатой и терпкой.
Там, где землю изрезали траки танков, все кустарники полегли, как пехота во время атаки: не зеленые — серые холмики, уже смешанные со снегом. Лес, застывший над ними, не стонет, не плачет: он стоит в онемении. Только изредка под порывами ветра зашумит, завздыхает да рванется куда-то бежать. Но куда убежишь?..
Под одним таким деревом, в полутьме зеленеющих сумерек, стоят двое: молодая высокая девушка в красноармейской шинели, подпоясанная комсоставским ремнем, в серой шапке-ушанке, белолицая, сероглазая, и с измученным лицом темнобровый полковник в черной бурке, в папахе. Две лошади стоят рядом, низко свесив к земле свои головы: вороная и рыжий дончак, иногда они осторожно хватают губами лежащие на сугробе зеленую хвою и ветки, лижут снег.
Где-то рядом стреляет орудие — возникает медлительный свист. Дальнобойный снаряд не летит, а сановно уходит, шелковисто, старательно шелестя и при этом как будто распарывая, разрезая собой туго стянутый стужею воздух. Прислушавшись к его шелесту, к свисту, девушка говорит:
— Ну, что делать, Степан Митрофанович… Я не знаю. Война!
Наверное, уже с час они кружат по лесу, по забытым тропинкам. Иногда натыкаются на укрытые снегом землянки, на зазябнувших часовых, на бегущие по деревьям, а потом по шестам разноцветные нитки бесчисленных проводов, и тогда опять забираются в чащу леса, под низко нависшие сосны и ели. И подолгу стоят, не могут расстаться. Усталые лошади то шагают за ними, понурясь, а то ждут терпеливо, пофыркивая у них за спиной, ожидая, когда эти двое опять побредут по заветному кругу: лес, поляна, землянки, дорога, овраги, разрытый окопом сугроб…
Шерстобитов с осторожностью, бережно держит в руках, согревая дыханием огрубевшую, темную руку Лиды.
— Никуда от себя тебя больше не отпущу!
— Почему же? Отпустите… Аржанович прикажет, вот вы и отпустите, — грустно шутит с улыбкой Лида.
— Лида, милая…
— Не просите, не надо. Я сама из разведвзвода никуда не уйду. Вы же знаете это.
— К сожалению, да.
Он берет ее с силой за плечи, поворачивает к себе и глядит ей в лицо исступленным, ласкающим взглядом. Говорит почти шепотом:
— Не могу без тебя. Будь женой мне… Люблю…
— А Ульяна?
— Что Ульяна?! Ульяна чужая давно. К ней возврата не будет.
— У вас сыновья…
— Да, детей жаль. Ты права. Сыновей не оставлю… И у нас с тобой будут дети. Девчонки. Там были мальчишки, а ты нарожаешь девчонок. Сероглазых… в тебя…
— Нет, Степан… Митрофанович.
— Скажи просто: Степан…
— Не могу. Не привыкла. Для меня вы — полковник. А потом уже — Степа. Милый, очень хороший… Дурной…
— Ты сперва отвечай: да иль нет?
— Степа, нет.
— Никогда?
— Только после победы…
— Ну, значит, не веришь.
— Нет, верю, люблю… Но только после победы…
— Ну, прощай! — он качнул головою. — Значит, будет счастливец другой!
Взвизгнул снег под ногами полковника. Дончак чуть присел под тяжестью его тела, рванулся в карьер. А Лида шагнула с дороги к коню, и что-то толкнуло ее в грудь грубо, жестоко, дым и пламя ударили заревом прямо в зрачки. Захлебнувшись, как будто рыдая, как будто тонула, она все хватала, хватала ртом, горлом этот горький, вонючий, обжигающий легкие воздух, пока не упала ничком, задохнувшись совсем.
4Большаков шел по улицам Суховершина с чуть кружащейся, даже звенящей от свежего воздуха головой. Он сейчас был, как в юности, счастлив каждой клеточкой тела. И все радовало его: и холодная резкость ветра, несущего пену поземки, и свинцовое небо, и наезженная, вся в изрытых извилистых колеях фронтовая дорога.
Он так рвался на фронт, что извел и себя, и врачей, и сестер бесконечными просьбами поскорее отправить «домой», так он звал дивизию Шерстобитова. В результате Георгий Антонович, сжав в ниточку синеватые губы и сощурив глаза за толстыми линзами очков, наконец подписал документы на выписку и сказал на прощание с большой сухостью в голосе:
— Молодой человек! Если свалитесь где-нибудь по дороге, — виноваты не мы. Пеняйте тогда на себя. Я вообще не умею справляться с такими упрямцами. — При этом Гусев сощурился с неожиданно проглянувшей в глазах веселой улыбкой. — А стремления ваши между тем разделяю. — Он встал с табурета, пожал на прощание руку, добавив при этом: — Да, при случае… Передайте полковнику Шерстобитову мой нижайший поклон и почтение и что зол на него, аки пес меделянский… Ну уж ладно, идите. Ни пуха! И будьте здоровы…
И сейчас Большаков улыбался добытой свободе, как чуду. Он стоял на бугре и глядел на изрытые улицы Суховершина, на следы пепелищ, на коричнево-серые кубики уцелевших, разбросанных по огородам амбаров и риг, удивляясь: черт возьми, а красиво… Чуть волнистые, гофрированные сугробы вдоль домов и заборов сейчас словно тлели от вьюги, дымились. И они тоже были частицей огромного счастья. Сергей радостно улыбался и им.
По улице, от эшелонов, вели пополнение.
Кривоногий, приземистый старшина шел чуть-чуть позади своего неумелого, еще робкого строя. Старшина был немолод и некрасив, глазки маленькие, нос приплюснут широкой нашлепкой, брови рыжие, и каждая свернута чуть лохматящимся узелком. Но все двигалось в этом человеке как-то очень ритмично, картинно: руки в черных перчатках, кривоватые ноги в черных хромовых сапогах, несмотря на мороз, широченные плечи и узкая, тонкая талия, перетянутая ремнями, — все исполнено чувства силы и собственного достоинства, даже больше того, какого-то скрытого смысла. Словно он, старшина, знал великую, неизвестную людям военную тайну, но нигде никогда ее не рассказывал никому — не имел на то права.
Он прошел мимо Большакова, скользнув искоса ласковым, понимающим взглядом, и так молодо, хорошо козырнул, что Сергей невольно ему улыбнулся: нет, каков молодец старшина! Просто даже завидно…
Замыкающий в их колонне, пожилой новобранец в длиннополой шинели с разъезжающимися на льду колеи неуверенными ногами, на мгновение остановился, отбившись от строя, оглянулся назад, на вагоны товарняка, что-то горестно пробормотал себе под нос, потом безнадежно махнул вялой рукой.
— Рядовой Буслава, а ну встать на место! — крикнул старшина, углядев его самовольство тем особенным, боковым, незаметным для окружающих зрением, которое свойственно лишь наблюдательным, еще смолоду вышколенным служакам, и скомандовал весело, бодро, хорошо понимая, что солдатик не смел не послушаться и уже догоняет свой строй, закричал:
— А ну, н-ножку! Буслава, выше н-ножку! Ну, гляди веселей! Запевала, песню!
И чей-то молоденький, дребезжащий, но верный, настойчивый тенорок потянул и приподнял знакомую строевую солдатскую песню, увлекающую за собой и солдат-новобранцев, да и всех окружающих.
Кома-анди-ир товарищ наш Буде-е-енный,
Он все время-а впе-ре-еди-и…
«А что, молодец старшина!» — подумал опять Большаков удивленно, растроганно. И пока шел к развилке дорог, размышлял не о собственной службе — как примет у Тышкевича полк, как начнутся бои, — а об этих идущих на фронт новобранцах. И печальный солдатик, оглянувшийся на оставленный эшелон, на свой дом где-то там, в глубине необъятной страны, и грозно окликнувший его старшина были чем-то решительно связаны с жизнью Сергея давней внутренней закономерностью, о которой он прежде не знал и не думал.
Нет, наверно, это правильно, размышлял Большаков, что весь смысл нашей нынешней жизни и всего совершаемого на войне заключается в том, чтобы человек шел в бой, не оглядываясь на свое, отвлеченное от других. Чтобы ему просто не было времени оглянуться. Ну, хотя бы на первых порах. В этом больше гуманности, чем во всем о гуманности сказанном и написанном.