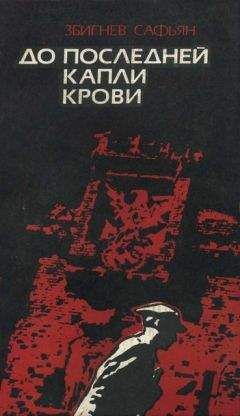Збигнев Сафьян - До последней крови
— Если говорим о народном фронте, то мы верим в него. Это не игра, — добавил Тадеуш.
— Да, да, — усмехнулся Павлик, — но я не очень верю в видимость правды. Наши взгляды противоположны концепции Сикорского.
— Это не совсем так… — прервала Ванда.
— Ни в Польше, ни здесь, — продолжал Павлик, — мы не перетянем на нашу сторону народные массы, если не скажем открыто, чего добиваемся. О демократической, независимой Польше говорит также Сикорский. И мы его в этом не превзойдем. Мы стремимся к Польше другого типа.
— Надо отличать… — начал Тадеуш.
— Дальние и близкие цели? — перебил Павлик. — Будем позировать, а это самое плохое. Надо сказать, что власть возьмет рабочий класс, а не говорить о конституции двадцать первого года, о свободных выборах, заранее зная, что их не выиграем…
— Далеко смотришь, — включился Тадеуш, — по серьезно ошибаешься. Дело не только в характере строя в Польше, но и в ее месте в послевоенном мире, которое Сикорский не может одобрить. Не исключено, что он был бы в состоянии чего-то добиться, если бы не сопротивление сил, на которые в действительности опирается.
Рашеньский решил, что должен вмешаться. Только теперь его заметили.
— Вы правы, — обратился он к Тадеушу. — Главное сейчас — не конституция будущего политического строя Польши, а именно ее место в мире, сегодняшнее и будущее отношение к России и союзникам. Ваша концепция в общем виде правильная и, наверное, единственно возможная. Одновременно она трудна и болезненна. Не исключено, что поляки ее бы приняли, если бы представлял ее Сикорский. А признают ли вас? Являетесь ли вы достаточно самостоятельным партнером в разговорах с Россией?
— Вы вообще не понимаете, в чем суть! — вырвалось у Павлика.
— Возможно, — согласился Рашеньский. — И согласен с вами, что было бы проще, если бы вы ясно представили свою программу.
Неожиданно Ванда рассмеялась.
— Пан Анджей, именно такие, как вы, нужны нам как воздух.
— Но, но… — прервал Павлик.
— Как воздух, — повторила Ванда. — Вы поддерживаете то, что является главным в наших мыслях. Оставайтесь с нами.
— Нет, — сказал Рашеньский.
— Мы начинаем издавать журнал. Создаем польскую организацию: Союз польских патриотов. Люди, которые понимают, что будущая Польша должна жить в дружбе с Россией, в новых границах, — с нами.
— Нет, — повторил Рашеньский. — Могу защищать эту идею в Лондоне и верить, что Сикорский ее все же примет…
— Значит, поддерживаете нашу концепцию, — тихо сказала Ванда, — но не нас.
Рашеньский молчал.
— Это надо понимать так, что вы против, — сказал Павлик. — Только мы, взяв власть, только с утверждением нашей власти, можем изменить положение Польши в Европе. Ничего неожиданного. У вас другие взгляды и иная биография, — добавил Павлик.
— Глупости болтаешь! — резко прервала его Ванда. — Говоришь: «взяв власть», «мы»… Мы — только эмиграция и лишь сплачиваем поляков в Советском Союзе… А с вами, пан Анджей, когда-нибудь наверняка встретимся. Наверняка.
Рашеньский не забыл этот разговор, но вспоминал о нем неохотно. В своих записях он отметил: «Мое отношение к ним честолюбивое и противоречивое. Соглашаюсь с ними и не могу их одобрить. Хотя бы были откровенны и говорили прямо! Но каждое выражение, даже Василевской, требует разъяснения и дополнения. Говорят: «независимость» — и знают, что это не совсем независимость. Говорят: «демократия» — и понимают, что трудно было бы нам выработать совместное определение этого понятия. А если я ошибаюсь? Возможно, они правы, а я придерживаюсь слишком традиционных категорий мышления, чтобы с этим согласиться?»
Первым человеком, которому Рашеньский подробно и без оговорок рассказал о своих тюремных переживаниях и разговоре с коммунистами, была Ева Кашельская. Вскоре после его приезда она пришла в редакцию «Ведомостей» и принесла текст, который положили в архив, хотя даже главный редактор признал, что написано талантливо и увлеченно.
— Рекомендую издать после войны. Вам нужно писать воспоминания, — посоветовал Рашеньский.
Написанное Евой касалось работы посольства, с описанием интриг и сплетен, и все это преследовало цель, которую Рашеньский понял только после установления ее отношения к Радвану. Героем ее репортажа или, скорее, беллетризованной повести был молодой порядочный человек, опутанный сетью интриг, несправедливо обвиненный.
— У тебя талант, — сказал он ей много дней спустя.
— Женщина, когда любит, готова выйти даже на боксерский ринг.
Его это огорчило. Подумал, что ни он, ни она уже не отважатся на любовь, будто исчерпали все выделенные им запасы и возможности. Сначала встречались в небольшом ресторанчике втроем: Кашельскую все время сопровождал полковник Кетлич. Любил Рашеньский эти встречи. С тех пор как не стало в Лондоне Вензляка, только с ними он и мог разговаривать откровенно. Больше был откровенен с Евой, чем с Кетличем, о чем прямо заявил старому полковнику:
— Тот, кто не был в России, не способен понять нашу душевную раздвоенность, наше двойственное отношение к этой стране. Дружба, гнев, отчуждение, понимание тесной привязанности, неразделимой исторической связи, против которой постоянно возникает протест, — вот те удивительные и противоречивые чувства, овладевавшие поляком «оттуда», когда думаешь о России.
Кетлич кивал, смотрел на пани Еву, но было не ясно, понимал ли. К большинству вопросов о войне он относился скептически, не был способен смотреть широко, строить смелые планы, как это делал Вензляк.
Вензляк! «Главный герой моей повести», — думал Рашеньский. Возможно, именно трагический, внезапный, совершенно неожиданный конец свойствен этой личности? Единственный польский генерал, умевший управлять большими танковыми соединениями… Где же эти соединения? Где театр военных действий, на котором самостоятельно командовал бы военачальник?
Хотел побольше узнать о смерти генерала, но в генеральном штабе получил весьма лаконичную информацию: «После войны узнаете все. Донесения из Польши не очень точны».
Известно было только, что Вензляк приземлился где-то в Люблинском воеводстве и погиб в ту же ночь во время боя партизанского отряда с немцами. Зачем Сикорский послал его в Польшу? Какую должность мог занять он в Армии Крайовой [44]?
Рашеньский предполагал, что Вензляк сам потребовал от Верховного такого назначения («Какого? Чем он должен был там командовать? Выполнять специальное задание?»), потому что утверждал: только будучи в Польше, мог бы вести большую игру с русскими. Но ведь совершенно очевидно, что в Польшу войдет Красная Армия! Разве сумеет кто-либо удержать ее после Сталинграда! Зачем Вензляк доказывал Сикорскому, что люди Соснковского, а также руководство Армии Крайовой не сумеют разыграть эту партию? Только он. А может, было иначе? Может, Сикорский сам выслал из Лондона строптивого генерала? Кетлич молча кивал, не отрицая и не подтверждая. Рашеньский подозревал, что старый полковник, однако, знает больше. Был теплый апрельский вечер, когда Кетлич как раз рассказывал им о Вензляке. Вышли из ресторана, и Лондон показался чистым, без тумана, луна висела над крышами. Ева взяла Рашеньского под руку и прижалась к нему. Старый полковник грустно посмотрел на них.
— Прошу вас помнить, пан Анджей, — сказал Кетлич, — в истории и жизни ценятся не возможности, а осуществления. А если Вензляк был способен только на героическую гибель, и ни на что больше? Здесь я с вами распрощаюсь.
Ушел, и его не задерживали.
— Бедный старик, — усмехнулась Ева, — додумался раньше вас. Пойдем к вам или ко мне?
— Ко мне, — сказал Рашеньский.
Так начались их отношения. В то время, как потом утверждал Рашеньский, Ева была ему особенно нужна. Не говорили о любви и, кстати, не думали, что их связь можно назвать любовью. Не стали жить вместе, хотя комната Рашеньского заменяла им дом. На столе, у окна, стояла большая фотография Марты, и когда приходила Ева, Анджей вроде случайно клал стопку книг так, чтобы она загораживала фотографию.
— Ты до смешного сентиментальный человек, — говорила Ева. — Я ожидала от тебя большего скептицизма, думала, будешь держаться на некотором расстоянии, не помешало бы даже немного цинизма. Вот же, везет же мне на некоторую категорию мужчин! Может, я их притягиваю? Только Данецкий, который в меня влюбился, был достаточно подлым, чтобы в его обществе я могла себя чувствовать свободно.
Скептицизм Евы, ее, как говорил Рашеньский, «невыносимое благоразумие мегеры из МИДа» пригодились бы в настоящее время. Может, помогли бы Анджею сохранить некоторую выдержку и продвинуть работу, как он сам любил говорить, для истории.
Когда утром, после их первой ночи, он приехал в редакцию, его ударило, как кастетом, катынское известие. Немцы ночью передали специальное сообщение, польская пресса немедленно его повторила. Позже, в течение многих дней, Рашеньский тяжело переживал Катынь. Ночью, во сне, преследовали его лица друзей, которых он помнил, но не знал, были ли они в том лагере, просыпался, слышал крик и успокаивался, когда Ева клала ему на лоб ладонь. Тогда, в первый день, его удивила скоропалительность польских выводов. С необычайной яростью и бешенством попиралось все, что удалось достичь Сикорскому. Потрясающей показалась Рашеньскому легкость, с которой польская лондонская общественность повторяла коммюнике Геббельса. Ведь цель немцев была ясной… Он сам не хотел верить в случившееся, отказывал убийцам в праве бросать обвинение, но иногда его охватывал ужасный страх, подавляющий, сталкивающий в безысходность: а если это правда?