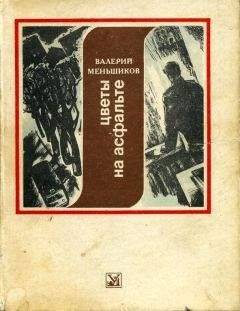Вацлав Билиньский - Шестая батарея
— Я знаю, как следует поступить! Мешковский сам должен дать ответ на провокацию.
— Я? — удивился командир взвода.
— Именно ты! Тебе надо сказать своим курсантам, что ты думаешь по этому поводу.
Мешковский был не в восторге от такого предложения.
— Я отродясь не выступал и в политику не лез.
К нему подошел Брыла. Вытирая мохнатым полотенцем свое мускулистое тело, он зло бросил:
— Послушай, Мешковский, хватит этих избитых фраз об аполитичности. Нельзя оставаться в стороне. Либо ты с нами, либо с ними.
— Я солдат! — возразил Мешковский. — Хочу сражаться, а не играть в политику. Это ваше, замполитов, дело.
— А знаешь, как расценивает твою позицию враг? — неожиданно вмешался Казуба. — Думаю, так: «Мешковский боится, поэтому и не высовывается. К тому же он еще довоенный офицер и в душе, наверное, сочувствует нам». Поэтому тебе и подсунули эту листовку!
— Казуба прав! — сказал Брыла. — Абсолютно прав.
— Позвольте, но я ведь в самом деле никогда не занимался политикой.
Брыла сел рядом с командиром взвода и начал убеждать его:
— Мы давно знакомы с тобой, Янек. Я хорошо помню наши беседы в Брянске и в ресторанчике Богушевского. Уверен, ты просто не сумел освободиться от балласта идей довоенной армии.
— Какого еще балласта?
— Там тебе вбили в голову, что «армия вне политики». И ты как попугай повторяешь это, хотя с тех пор утекло много воды. Несмотря на то что, как ты сам утверждаешь, твой образ мыслей изменился… Пойми, вся довоенная болтовня об аполитичности армии была ложью. Кто был вне политики? Полковники, которые цементировали аппарат санации? Может быть, генералы, которые на политике сколачивали состояния? Аполитичными должны были быть солдаты и такой вот одураченный офицеришка, как ты! А зачем? Да затем, чтобы ты не понял, что являешься составной частью аппарата угнетения собственного народа, что служишь в армии, главнейшим предназначением которой является защита богатства буржуев, их власти. Чтобы смог повернуть оружие против собственных братьев, если это потребуется правящим классам. А ты всего этого до сих пор не понял.
Мешковский неспокойно заерзал. Брыла остановил его:
— Погоди-ка, дай закончить. Именно такое состояние я и называю балластом.
— К черту! — выпалил Мешковский. — Это что же, каждый должен заделаться политиком? Тогда какой должна быть армия?
— Максимально политически активной, понимаешь? Сознательной и активной. Народная армия не может быть вне политики. Она будет драться за наши политические цели и идеалы, за социальные реформы, будет стоять на страже завоеваний трудящихся, бороться с фашизмом. Мы не хотим никого обманывать и поэтому говорим открыто: наша армия — надежная опора народной власти. Надежная и сознательная!
Казуба подошел к Мешковскому и положил ему на плечи руки.
— Пойми, Янек, пора определиться. И не только в беседах с нами. А перед всей батареей. Не кажется ли тебе, что курсанты считают тебя кем-то вроде Чарковского? И тебе не стыдно?
— Так что же мне делать?
— Ты должен занять ясную, однозначную позицию.
— Я это уже давно сделал. Брыла. Еще в Брянске я говорил тебе, что власть должна перейти в руки народа. А затем не раз подчеркивал, что считаю предательской деятельность реакционного подполья…
— Ты все никак не можешь понять, о чем идет речь, — вздохнул Казуба. — Знаешь, и я раньше допускал ту же ошибку. Тоже считал, что для меня достаточно стать на сторону народной власти, а политические вопросы оставлял Слотницкому. И что из этого вышло? Реакционные силы сумели увлечь за собой большинство курсантов батареи. И каков же вывод? Брыле надо помочь! Ты подумай, ведь эту листовку запихивали в твою Фуражку с какой-то целью. Как знать, может, тем временем враги распространяют в батарее слух, что Мешковский симпатизирует реакционному подполью. Завтра ты должен поставить все точки над «и», четко продемонстрировать свою позицию, высказав личное отношение к тем, из Лондона, и к тем, из леса. Осудить подрывную деятельность в нашей батарее. Договорились?
— Хорошо. Скажу.
— Ну вот видишь! — обрадовался Казуба. — И поможешь тем самым Брыле. А потом и я добавлю пару слов.
На следующий день после утренней поверки Мешковский и Казуба выступили перед курсантами своей батареи.
Когда взводы отправлялись на занятия, к Мешковскому подошел Чарковский.
— Ну и силен же ты речи толкать! — съязвил он. — Я даже не ожидал. Самого Брылу заткнешь за пояс!
Мешковский разозлился и собирался было сказать Даде пару «ласковых» слов, но тут подоспел Казуба и отправил его в канцелярию.
X
В тот день Брыла, как всегда, заглянул в штаб дивизиона; чтобы обговорить с поручником Ожохом текущие дела. Хорунжий все еще находился под впечатлением последних перемен. Разговор начал с самокритики. Признал, что до сих пор недооценивал значение враждебных настроений в шестой батарее.
— Погодите, погодите… Так вы считаете, что враг действует внутри батареи?
Брыла развел руками.
— Не знаю. Сам все время ломаю голову, но до конца не могу уяснить. Впрочем, не только я, но и Казуба, активисты…
Ожох, нахмурившись, молчал. Наконец предложил:
— Вы можете охарактеризовать мне офицеров вашей батареи?
Брыла, немного подумав, начал:
— Казуба…
— Этого я знаю, можете пропустить. А что вы о Мешковском думаете?
— Парень политически еще очень незрелый. Со старыми порядками не в ладах из-за каких-то личных неудач. Раньше ему было плохо, но это еще не политическое сознание. Тем не менее хороший, знающий офицер. И со временем будет полностью с нами…
— А Чарковский?
Брыла непроизвольно поморщился:
— Это совершенно другой человек. С нами у него нет ничего общего… И не будет…
— Вы пробовали поработать с ним?
Брыла помедлил с ответом:
— Пока нет…
Ожох удивленно посмотрел на него:
— Почему?
— Я с ним не говорил… Не раз собирался это сделать, но как-то не получалось, не мог решиться. Вы должны меня понять.
— Поясните-ка, Брыла, почему…
Брыла чуть ли не со злостью объяснял:
— А собственно, о чем мне с ним говорить? Агитировать его? Ведь Чарковский при старой власти жил себе припеваючи. А я должен его убеждать, что санационный режим был несправедливым?
— Погодите-ка… Так нельзя ставить вопрос.
Брыла вздохнул:
— Я понимаю, что вы хотите сказать. Понимаю и поэтому намереваюсь поговорить с ним, но все как-то…
— Это необходимо сделать, — отрезал Ожох. — Как вы думаете, Чарковский может иметь отношение…
— К тому, что произошло?
— Да.
— Не думаю.
— И все же вы должны присмотреться к нему… — заявил поручник. Немного помолчал, глядя на помрачневшее лицо Брылы, и улыбнулся: — А теперь я вам сообщу кое-что приятное. Я разговаривал с Казубой, и он считает, что вам удалось привлечь на свою сторону личный состав подразделения. По его мнению, батарея изменилась в лучшую сторону, прямо не узнать…
Брыла скептически поморщился:
— Конечно. Об этом свидетельствует появившаяся средь бела дня листовка…
— И все же люди стали политически активнее, и в этом, несомненно, ваша заслуга…
Хорунжий оживился:
— Просто мне удалось вовлечь в политическую работу нескольких курсантов. Вот и все мои заслуги. Они и до моего появления составляли демократическое ядро в батарее. Только бездействовали. Но до того, чтобы завоевать всех на свою сторону, еще далеко. Знаете, как я оцениваю расстановку сил?
Поручник вопросительно посмотрел на него.
— Группа активистов, подавляющее большинство пассивных и небольшая кучка почти не маскирующихся реакционеров. Вот вам полная картина батареи. Но как добраться до тех, кто ведет подрывную работу? Проповедники чуждых нам взглядов в последнее время все чаще активно и открыто вступают в дискуссии. Это вроде бы свидетельствует об отсутствии конспиративной деятельности… Но разве враг не может укрыться среди аполитичного большинства или изображать из себя активиста?
* * *В преподавательской хорунжий застал командира батареи и Воронцова. Полковник только сегодня узнал о подкинутой листовке. Здороваясь с Брылой, он сказал:
— Это дело тех же рук… А я уж было подумал, что после случая с дезертирством они успокоились… — Он возвратился к прерванному разговору с Казубой, потом, вдруг что-то вспомнив, снова повернулся к Брыле: — А ты приглядись повнимательнее к этому… как его… Чарковскому.
Хорунжего застали врасплох слова полковника. За последние несколько часов эту фамилию ему называл уже второй человек.
Казуба живо откликнулся на замечание Воронцова: