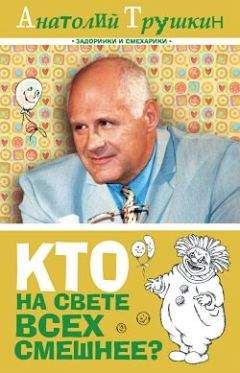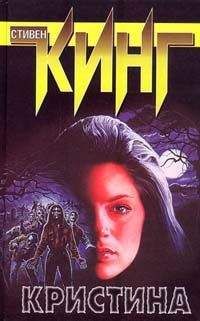Петр Михин - «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить
А нам было страшно стреляться. Даже когда немецкий танк двинулся давить нас. Требовалась пара секунд, чтобы пересилить себя. И эти две секунды нерешительности спасли нам жизнь. Внезапно танк резко, как запнулся, встал, мгновенно крутанул на одной гусенице на сто восемьдесят градусов и помчался что есть силы восвояси. За ним последовали остальные. Мы в растерянности оглянулись… Десятки наших танков выезжали из села! Их-то и испугались наши мучители, в одно мгновение позабыв про нас. Случилось, как в кино, невероятное: уже и курки взвели, и пистолеты к вискам приставили — и тут!.. До роковых выстрелов в собственные головы не хватило какой-то секунды.
Между тем наша 1-я батарея вела жаркий бой с подошедшей к деревне основной группой немецких танков, несколько танков уже было подбито…
ПогоняНемец убегал от меня изо всех сил. Из-под мостика их выскочило двое, но второй, когда я припустил за ними, развернулся и дал по мне автоматную очередь, я ответил тем же, и он упал замертво. Этот же немец пытался удрать в поле следом за отступившими из деревни фашистами. До него оставалось метров пятьдесят.
Хорошо, что я не стал ждать свою пехоту, а бросился с тремя управленцами вдогонку за отступавшими фашистами. Иначе мостик взлетел бы на воздух! И хорошо, что я догадался заглянуть под этот мостик, когда двое в мышиных шинелях выскочили из-под него. Так и оказалось — подложили под сваю взрывчатку! И по бикфордову шнуру уже бежал огонек! Мостик, конечно, — не мост, так себе переправа, но если бы немцам удалось взорвать его, мои гаубицы, которые уже снялись с закрытой позиции, не смогли бы вовремя одолеть заболоченный ручей и надолго отстали бы от нас. Я вырвал горящий шнур, отбросил в сторону и кинулся за убегавшими взрывниками.
А командир батальона Морозов задержался перед деревней потому, что никак не мог вытащить из немецкой траншеи своих измученных, полуживых пехотинцев. Они как ввалились в траншею, когда из нее выскочили немцы, так и остались лежать на дне окопов. Морозов истерически кричал, ругался на чем свет стоит, угрожал пистолетом, даже стрелял в воздух, топтал солдат ногами, остервенело пинал их сапогами — но они, как убитые, не шевелились. А батальону надо было не только эту траншею захватить, но и деревню взять. И сделать это надо быстро, пока немцы не очухались, не закрепились в ней. Но солдаты оставались недвижны. Какой уж раз кончались их физические и духовные силы за пять атак на эту злосчастную траншею. Люди, уцелевшие после пяти атак, ничего уже не боялись. Весь взгорок на подступах к этой траншее был устлан нашими убитыми и ранеными. И что им теперь комбат со своим пистолетом — всех не перестреляет.
Морозов как-то вдруг понял все это, плюнул и устало опустился на край окопа. Этот высокий, стройный, энергичный красавец сам вдруг сник, согнулся и сгорбился, уперся локтями в колени, прижав к глазам свои могучие кулаки. Выглядел он самым несчастным человеком на земле. Он и сам с рассвета вымучился не менее любого из своих солдат. И, как всегда во время боя, не было рядом с ним ни замполита, ни парторга, ни комсорга. А командиры рот, не говоря уже о взводных, давно вышли из строя. Сегодня погиб последний ротный. Да и от батальона осталось человек тридцать. В ушах Морозова все еще хрипел срывающийся голос комполка по телефону: «Расстреляю, такой-сякой, если не возьмешь деревню!» А как ее было взять?!! Перед деревней — траншея в полный рост! Наши снаряды рвутся в самой близи от нее, попадают в бруствер, осыпают стены, — а немцы отлеживаются себе на дне окопов! Только прекращаем стрельбу, чтобы не искалечить свою наступающую пехоту, — немцы вскакивают, кладут пулеметы на бруствер и давай крошить наших! Да, как легко было в сорок первом немцам занимать российские просторы, нам же теперь приходится с бою брать каждый взгорок!
Захлебнулась бы и пятая атака. Но, к нашей радости, на мою батарею подвезли бризантные снаряды. Только этими снарядами можно вышибить врага из окопов. Во взрывателе такого снаряда имеется трубка с пороховой мякотью, которая загорается при выстреле. Пока снаряд летит, мякоть в трубке горит и взрывает снаряд при подлете к цели. Но очень трудно рассчитать время горения этой мякоти — решают сотые доли секунды. Только артиллеристы-виртуозы у нас и у немцев могли стрелять бризантными снарядами. Не зря же над пушкарями шутили: «Трубка пять, по своим опять!» К счастью, я умел с ними управляться, и все эти редкие, дорогие снаряды направляли на мою батарею.
Такими снарядами выкуривают неприятеля из траншей: оглушительный взрыв над головой, страшный град стальных осколков сверху — и никакая траншея не спасет. И сейчас, когда над головами фашистов загремели в воздухе разрывы и огненный град осколков окатил траншею сверху, немцы взвыли, заметались в окопах, как тараканы на горячей сковородке, а уцелевшие выскакивали и бежали в деревню. Но я такими же снарядами выкурил их вон и из деревни. Вот тут-то наши пехотинцы, поднявшись во весь рост, доковыляли до траншеи и ввалились в нее. Но я не стал их ждать, бросился с управленцами вдогонку за подрывниками, чуть не взорвавшими мост.
Расстояние между мной и убегавшим немцем быстро сокращалось. Бегал я с детства хорошо, много тренировался в институте и во время формирования в запасном полку; сначала мы проклинали мучителя-майора, гонявшего нас ежедневно по утрам на десять километров, зато на фронте благодарили. И вот теперь мне предстоит потягаться в беге с немцем. Не знаю, на что он рассчитывал, ведь я в любую секунду мог выстрелить ему в спину. Но на войне всякое случалось. Бывало, что и убегали. И мы, и немцы.
Когда до немца оставалось метров пять, он сбросил шинель и начал удаляться, я тоже скинул шинель… Немец скинул китель. Опять припустил! А у меня уже кончились все жизненные ресурсы — от частого горячего дыхания огнем пылает горло, сердце вырывается наружу. Ну все, думаю, сил больше никаких нет, не догоню немца. Длинноногий попался, тренированный. Я уже вскинул автомат, нащупываю на бегу спусковой крючок… И тут неистовое желание поймать немца — ЖИВЫМ! — пересиливает все на свете. Такое жгучее, все исключающее желание бывает только у детей. Уже после войны пятилетний сын запросил однажды: «Папа, поймай воробушка, я только подержу его и отпущу!» Вспомнив «своего» немца, я понял желание ребенка ухватиться за невозможное, за небесное, и поймал-таки ему молодого воробья, хотя и сильно рисковал: птенец прятался в нависавших над пропастью кустах.
В какой уже раз делаю еще рывок, и до немца остается пара шагов. Вижу пар над его нательной рубашкой. Дело происходит ранней весной, снег уже стаял, но под раскисшей землей лежит мерзлый грунт, грязь с него соскальзывает, ноги то и дело разъезжаются в стороны. Двое моих связистов и Коренной, нагруженные катушками с кабелем, далеко отстали; давно уже скрылись впереди за бугром убегавшие из деревни фашисты — и мы с немцем вдвоем, один на один, несемся по скользкому голому полю. Он изо всех сил убегает от смерти, а я догоняю его, чтобы насладиться отмщением. Мне надо во что бы то ни стало поймать его живым! Что ни говори, а живого немца — нет, не пленного, уже сникшего и беспомощного, как бочечная селедка, а бьющегося, сопротивляющегося, как только что подцепленный на крючок голавль, — захватить очень заманчиво! Не часто удавалось нам с близкого расстояния видеть живого врага. Во время атак — расстояние десятки метров, лиц не видно. И в рукопашной схватке врага не разглядишь, тут все происходит быстро, неожиданно, лица озверелые, искажены, мелькают, сливаются в красное месиво, да и самому не до созерцания выражений лиц и глаз врагов.
Что-то загадочное, чуждое, опасное и непонятное чувствовали мы всегда в немцах. Злые, коварные, хитрые, ловкие, жилистые, техничные, стойкие и надменные. Мирное, близкое соседство с фашистами было у нас немыслимо. Если ты, даже случайно, увидел его — стреляй немедленно, иначе он тебя убьет! Немцы тоже не терпели и боялись нас, «зелеными привидениями» называли. Но кроме зла и отвращения был у нас какой-то тайный интерес к противнику. Хотя боже упаси поделиться этим даже с близким другом! Это был такой криминал, который пресекался и карался нещадно. Естественным было желание нашей пропаганды — воодушевить своих и унизить противника. Но карикатурный показ немцев как трусов и дурачков развлекал бывалых воинов и вводил в заблуждение новичков. Истинную силу немцев мы познавали в бою, на передовой.
Кто же они такие, немцы? Во имя чего так отчаянно и храбро воюют? Почему так хорошо оснащены — от оружия до амуниции и продовольствия? У нас же вечно чего-то не хватало. И в бою эти нехватки оборачивались немыслимыми страданиями, перенапряжением сил и излишними потерями. Немцы-то не послабляли нам в счет наших нехваток. Зато как радовались мы, когда было у нас всего в достатке — и продовольствия, и боеприпасов, да вдобавок прибывали на подкрепление еще и прославленные «катюши»! Само их присутствие удесятеряло наши силы!