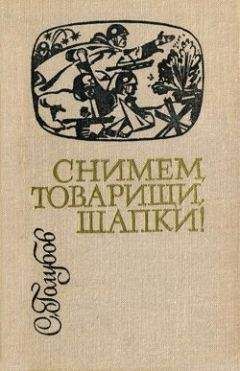Аркадий Первенцев - Над Кубанью. Книга вторая
Старик композитор сидел поодаль на низком цементном порожке. В руке, безвольно свисавшей с колена, он тихо кружил свою широкополую шляпу. Девочка всхлипывала, прильнувши к его плечу. Сенька остановился, снял шапку.
— Пятерых одним снарядом уложило. Ночью еще, — сказал боец с перевязанной головой, вероятно ожидавший санитаров, — сын его… — он кивнул на старика.
— Кто сын? — спросил Сенька.
— Тот, веселый, с карандашиком.
Сенька приблизился к девочке, осторожно прикоснулся к ее руке. Девочка отдернула руку. Мальчишка поймал ее недружелюбный взгляд.
— Не наши, их, — как бы извиняясь, произнес Сенька, — оттуда стреляли.
По щекам девочки струйкой потекли слезы. Отец испуганно прижал ее к себе.
— Уйдите, уйдите.
— Не плачь, — Сенька нахмурился, — в Кубани и так воды до греца.
— Не буду, — всхлипнула девочка, — не буду. Только уйди…
— Уйду, — обиженным баском сказал Сенька, — моего батю тоже вот так… — он скривил губы, — и пулями и штыками.
В это время на правый фланг, на смену Казановичу, выходил офицерский полк Первой бригады. Марков вел колонну по береговой дороге. Задержавшись возле фермы, перекинулся несколькими словами с Корниловым и Романовским, ушел широким шагом, помахивая нагайкой. Его бригада только что закончила переправу. Паромы были притянуты на правобережье, и станицу Елизаветинскую наводнили обозы.
— Казанович потерял много людей, — сказал Корнилов, присаживаясь на табурет, — а казармы так и не взяты. Большевики дерутся как дьяволы.
— Удивительное дело, — сказал Гурдай, — большевики, а так дерутся!
Корнилов оглядел его далекими, невидящими глазами.
— Ничего нет удивительного, — тихо произнес он, — русские.
Все замолкли. Из раскрытого окна штабной комнатки долетал отчетливый голос дежурного адъютанта, передающего по телефону приказание батальону Улагая. Небо очистилось. Темнели леса левобережной поймы. Оттуда неустанно постреливала батарея, очевидно нацеливаясь на беленький домик штаба. Корнилов встал. Лица его было землисто, отяжелевшие веки подрагивали, пальцы нервно теребили солдатский георгиевский крестик, тускло светлевший на его защитном френче.
— Иногда меня больше радует вот такое сопротивление, чем раболепство и покорность, — тихо сказал он с грустной улыбкой. — Помните казачью делегацию Рязанской станицы. Пытались стать на колени, вручить хлеб-соль… Они склонились, одержимые лишь страхом… — Корнилов помолчал. — Тогда я казался себе пришельцем, ханом Золотой Орды, и мысли возвращали меня в глубину позорных столетий. У этого города я встретил настоящих русских, господа…
Деникин отвернулся. Султан-Гирей и дежурные текинцы оставались бесстрастными.
— Приведите пленных, — резко приказал Корнилов, снова опускаясь на табурет.
На его лицо легла прежняя суровость.
Из-за дома привели прихрамывающего Махмуда, обряженного в сыромятные постолы, и широколицего человека в рваной и короткой шинели. Махмуд исподлобья наблюдал необычное скопление важных генералов.
— Черкес, очевидно, закубанского ополчения, а прапорщик служил в Первом северо-кубанском полку красных, — доложил Романовский.
Корнилов произвел личный допрос. Прапорщик детально рассказал все ему известное, поминутно отрекаясь от большевиков, от «совдепов»… Махмуд не отвечал, но когда его спросил Султан-Гирей, за что он воюет, тихо сказал по-русски:
— Лучше жить надо.
— А почему ты знаешь, что будет так? — переспросил Султан-Гирей, пряча тонкую улыбку.
— Так сказал Хомутов Ванька — солдат.
— Сегодня мы возьмем город, — сказал Корнилов, пытливо изучая лица пленных. Заметив угодливость прапорщика, перевел взгляд на адыгейца. Махмуд пожал плечами. Султан-Гирей повторил фразу по-адыгейски.
— Не возьмешь, — упрямо отвечал Махмуд.
— Конечно, возьмете, 'ваше высокопревосходительство — вмешался прапорщик, — и если вы прикажете…
Корнилов сделал нетерпеливый жест. Обратился к Махмуду:
— Почему ты думаешь, что мы не возьмем город?
— Так сказал Хомутов Ванька — солдат.
Корнилов передернул плечами.
— Кто такой Хомутов? — обратился к Романовскому: — у них новый главком?
— Хомутов Ванька — большевик, — медленно произнес Махмуд, с удовлетворением выговаривая каждое слово, — ему все сказал Ленин.
Корнилов опустил взор на растоптанную обувь, адыгейца.
— Уведите.
Пленного подтолкнули и повели.
— Как с ними? — спросил Романовский.
— Туземца оставьте, — сказал Корнилов, — он будет свидетелем нашей победы. Второго… проверьте, но имейте в виду: такие не нужны ни нам, ни, пожалуй, им… большевикам.
Донька с трудом разыскала Барташа и Батурина.
— Егора надо успокоить.
Она повлекла их, цепко ухватив за рукава шинелей.
— Вы хотя объясните, в чем дело, — защищался Барташ.
— Умом, видать, тронулся. Воевать хочет. На всех кидается…
Павло разжал потную Донькину руку.
— Не гоже двум бугаям позиции бросать, — сказал он, приостанавливаясь. — Роту на правый фланг перекидывают, там ненадежные держат, горлохваты-золота-ревцы. Хомутову пособить надо. Пойди-ка, Ефим, сам, да поскорей возвертайся.
Донька покусала губы и сухими горящими глазами быстро оглядела Павла. Подтянула конец платка.
— Тоже мне товарищ. Здоровый был — нужный был; как подвели — все отворотились. Вон кадеты всех раненых за собой тягают, а вы…
Она быстро пошла от них. Барташ догнал ее и зашагал рядом. Донька опустила голову. Когда он настойчиво задал ей несколько вопросов, подняла увлажненные глаза.
— Не за себя стараюсь. Обезноженному трудно сейчас. Попробуй, вытерпи.
Мостовой лежал на спине, его лицо было наполовину прикрыто мокрым полотенцем. Полотенце поднималось при дыхании. Кругом, на тесно сдвинутых кроватях, тихо стонали раненые.
— Тс-с! Еле успокоил, — предупредил пожилой санитар, — было окна вышиб. Нервный!
Барташ присел на краешек кровати, приподнял полотенце. Егор открыл глаза, хотел встать, но Ефим мягко, по-отечески надавил плечо. Доньку позвали.
— Видать, раненые поступили, — оправдываясь, сказала она. — Нужно будет, покличете.
— Чего в больнице воюешь? — укоризненно сказал Барташ Егору.
— Пролежишь тут, а вы без меня управитесь. Оттого и покою нет…
— Хватит и на твою долю, — сурово произнес Ефим, — выходит, ты уже и сам успокоился, напрасно только меня оторвали.
Он хотел приподняться. Мостовой удержал. Руки были горячи и шершавы.
— Ну, чего? Опять скандалить?
— Зря посылал меня тогда, видишь?
Оттого что изможденное лицо Егора носило следы не только физических, но и моральных страданий, Барташу захотелось успокоить его. Он переменил тон.
— Пока ничего не вижу, Егор. По-моему, скоро уж и подниматься надо.
— Сегодня вздумал — поднялся, не дали. — Мостовой прислушался к явно нарастающему орудийному гулу: — Тяжелые? Они?
— Нет, мы из Новороссийска подвезли.
— Хорошо, — сказал Егор, и глаза его потеплели, — у вас дела идут, а вот меня зря в большевики приписали, не тот я вроде человек, не с того материала сработанный.
— Почему ж не с того? Материал всегда одинаковый: кости, мясо, кожа…
— Выходит, мясо у меня не такое — сказал Егор и, помолчав, добавил: — По станице и то невзлюбили, замки ломал, на кулачках дрался… А вот нет покаяния. Хочется снова до отказа гайку завернуть, до скрипа.
— Значит, силы стало побольше.
— По-моему, коммуну надо какими-то другими руками делать, Ефим Саввич, — проникновенно сказал Мостовой. — Чтобы сердце было чище, а в душе, ежели поглядеть — он приподнял на свет стакан воды, — никакой мути. А такие, как я, порченые, засоренные. Видать, негоже то, что царь намусорил. Для коммуны негоже…
Ефим внимательно слушал Егора. Сомнения Мостового были для него не новы. Подобные сомнения ему неоднократно приходилось выслушивать от честных партийцев.
— Совсем неверно, Егор, — сказал Барташ, беря Мостового за руку, — болезнь виновата, раздражаешься ты понапрасну. Насчет твоих людей, чистых, как вода в стакане, фантазия, честное слово, фантазия, Егор. Готовых таких не найдешь. Трудненько, конечно, из нас сделать вот такую чистоту, но можно. Муть осядет. А потом через ватку или уголек воду пропустят, раз, другой, да может, и третий, а потом и тебя же на свет будут показывать и похваливать, и в голову никому не взбредет, что вот этот дистиллят сквозь черный уголь пропускали. — Ефим потрепал Мостового по щеке, обросшей рыжевато-седоватой щетиной. — Выздоравливай. А что спервоначалу в гражданской войне побили, не горюй. Битый всегда был дороже. Но на другой раз запомни одно: если партия посылает на дело, надо не плоховать. Вот послала тебя партия в тот же Егорлык против Корнилова. Видишь, не так человек командует, руководит — направь его; не выходит у него — помоги; не послушает — прогони.