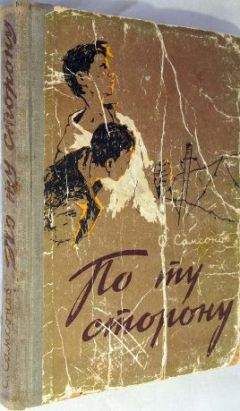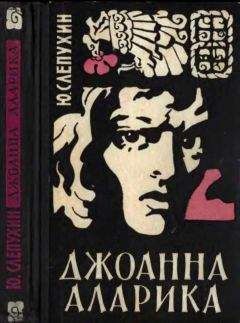Юрий Слепухин - Тьма в полдень
По второму адресу никого не оказалось дома. Не расспрашивая соседей, Таня ушла с чувством невольного облегчения, решив, что еще побывает здесь к концу дня, и отравилась к Бровманам на Старый Форштадт.
Ей открыл старик в узких стальных очках. Таня отдала деньги, взяла расписку. Пряча квитанцию в сумочку, она деловитым, почти сухим тоном сообщила о готовящемся вывозе евреев из города и посоветовала уехать куда-нибудь или укрыться хотя бы на несколько дней. Потом заставила себя поднять глаза и встретилась со взглядом Бровмана.
– Не смотрите на меня так, – сказала она тихо. – Пожалуйста, не смотрите...
– Вы были комсомолкой, – помолчав, сказал Бровман, не спрашивая, а констатируя.
– Да, – кивнула Таня.
– Так вы мне тогда скажите, почему нас тут оставили, – словно размышляя вслух, продолжал Бровман. – Если уж надо было пустить их сюда, так зачем было оставлять столько людей им на съедение?
– Вы говорите так, будто я виновата, но меня ведь тоже оставили, вы же видите – я тоже здесь...
Бровман слушал и смотрел на нее поверх очков своими печальными глазами, в которых не было ни страха, ни гнева – одно недоумение. Овладев собой, Таня заговорила громче, увереннее:
– Очевидно, не было возможности провести полную эвакуацию, ведь вы понимаете, что это не так просто!
– Ну конечно, – согласился Бровман. – Разве я говорю «нет»? Конечно, проще было оставить людей на съедение. У меня сын на фронте. Почему его дети должны теперь умереть? Их с нами двое, вот такие. – Старик показал рукою от пола, повыше и чуть пониже. – Что они, виноваты? Я свое отжил, слава Богу, видел плохое, видел и хорошее. А что видели они? А моя невестка – она русская, как и вы, – она виновата, что кому-то было «не так просто»? За что она должна умирать?
Таня почувствовала, что бледнеет.
– Почему «умирать», ведь речь идет о специальном лагере...
– Ну что вы мне говорите о специальном лагере, я же не ребенок, – укоризненно сказал Бровман. – Кому мы нужны, чтобы нас кормили в каком-то лагере? Немцам никто не нужен, им не нужны даже военнопленные, которых можно поставить на работу, а чего ради они будут кормить еврейских стариков и еврейских детей? Вы и сами в это не верите, иначе почему бы вы пришли уговаривать меня куда-то скрыться...
– Но я просто хотела... я думала...
– Я понимаю, вы хотели как-то помочь, вы добрая девушка. Но вы знаете такое место, куда можно уехать? Нет. Так я тоже не знаю. Может, вы думаете, что мы можем спокойно пойти на вокзал и сесть на одесский поезд? Говорят, в Транснистрии евреев не трогают. Вы можете переправить нас в Транснистрию? Нет, не можете. А если бы и могли, – так почему именно нас, а не других? В городе много евреев.
– Я просто хотела предупредить...
– Я понимаю, – повторил Бровман. Таня беспомощно пожала плечами.
– Но, может быть, вы могли бы... посоветоваться с кем-то, может быть, есть связи, возможности?.. Я не знаю никого, кто мог бы... сделать что-то практически...
– Я тоже не знаю, – сказал Бровман. – Хотя я прожил в этом городе сорок лет. Это очень много. Наверное, ваша мама родилась в том году, когда я сюда приехал. Я знал многих людей, очень многих... Меня приглашали к господину губернатору, я чинил у него часы работы мастера Луи-Авраама Бреге, а потом я чинил часы товарищу Котовскому, именные, от реввоенсовета республики... Я знал очень многих, и никому не делал плохого, и со всеми был в хороших отношениях. Странно, конечно, что теперь в своем собственном городе ты не находишь человека, который мог бы тебе помочь. Заметьте, я не говорю – «хотел бы», я говорю – «который мог бы помочь». Но я благодарен вам и за доброе желание, вы хорошая девушка...
Дверь, обитая рваной клеенкой, немного приоткрылась, и в комнату пробрался мальчик лет четырех.
– Боренька, – сказал Бровман, когда ребенок потянул его за штанину, – ты же видишь, со мной чужая тетя. Что нужно сказать?
– Здлавствуйте, – серьезно сказал мальчик, снизу вверх глядя на Таню блестящими черными глазами.
Она закусила губу и, ничего не сказав, выбежала из комнаты.
На улице она достала из кармана пальто список адресов и долго, не разбирая букв, смотрела на скомканный листок. Три – шесть – восемь семей, которые она еще должна посетить. Еще восемь таких встреч, восемь человек, которым она не посмеет смотреть в глаза. Зачем это, какой смысл предупреждать, когда ты не можешь предложить никакого выхода? Может быть, действительно лучше, чтобы они до конца ничего не знали...
Но прав и Попандопуло: не предупредить об опасности тоже нельзя. Мерзкий трус, спекулянт, свалил на нее самое тяжелое! А сам сидит в своем «Трианоне» и шепчется с каким-нибудь напудренным и накрашенным румыном... На фронт ее не взяли, потому что война, видите ли, не женское дело! На фронте, видите ли, для девушки слишком трудно! А в оккупации – легче?
Она размазала по щекам ледяные слезы и пошла дальше, еще раз заглянув в бумажку. Красноперекопский, дом одиннадцать. Красноперекопский – это далеко, идти придется чуть ли не через весь город. Ветер, с неба сыплется мокрая холодная пакость – снег пополам с дождем; только и не хватает промочить ноги, совсем будет отлично!
Какой-то неизвестного звания итальянец – маленький, в куцей темно-зеленой шинельке и натянутой на уши пилотке – пристроился к Тане, вкрадчиво шептал что-то утешительное, вздыхая и жестикулируя. Они появились в городе с месяц назад – добродушные, вроде румын; если румыны в основном торговали и при случае поворовывали, то итальянцы поворовывали и хорошо поставленными оперными голосами соблазняли горожанок. Когда поблизости не было немцев, те и другие с одинаковым энтузиазмом ругали Гитлера, и, хотя дальше ругательств дело не шло, горожане относились к ним вполне терпимо. У девушек же заморские певуны пользовались явным успехом.
Не новичком по этой части был, видимо, и маленький итальянец, нацелившийся теперь на Таню. Она ускорила шаг, но он не отставал, бодро топал своими альпийскими бутсами у нее за плечом. Через квартал он и вовсе осмелел и, словно так и надо, ловко поддел ее под руку. Резко остановившись, она оттолкнула своего кавалера, но при этом, поскользнувшись, сама едва удержалась на ногах. Итальянец, увернувшись от толчка, галантно поддержал ее за талию и тотчас же отпустил.
– Браво, синьорина, браво! – воскликнул он в полном восторге и, зажмурившись, поцеловал кончики собственных пальцев.
– Вас только не хватало! – крикнула Таня, едва удерживая слезы. – Постыдились бы, ведете себя хуже всякого немца!
Она свернула за угол и почти побежала, боясь оглянуться. Когда наконец оглянулась, итальянца уже не было, – верно, и впрямь постыдился. Вместо него Таня увидела Глушко, который только что вышел из подъезда вместе с человеком в замасленной спецовке.
– Володя! – еще издали крикнула она, подбегая. Потом разглядела второго и остановилась, не веря своим глазам.
– Леша? – спросила она недоверчиво.
Комсорг Кривошеин – по прозвищу Кривошип, – откуда он тут взялся? Ей показалось, что Кривошип, в свою очередь узнав ее, сделал движение не то отвернуться, не то спрятаться за Володю. Это длилось долю секунды, он, разумеется, тут же сообразил, что прятаться поздно, но это инстинктивное движение человека, не желающего быть узнанным, вместе с самим фактом появления комсомольского руководителя на улице оккупированного города, мгновенно подсказало ей ошеломляющую догадку: перед нею подпольщик, самый настоящий подпольщик, или даже двое, потому что Володя, конечно же, не случайно оказался здесь вместе с ним. Она ужаснулась, сообразив, что только что во всеуслышание назвала его настоящим именем.
– Ой, извините, пожалуйста, – сказала она, подходя ближе, – я ошиблась...
Володя переглянулся с Кривошеиным.
– Это товарищ из нашей мастерской, – сказал он нехотя, – а зовут его Федотовым. Ясно?
– Ясно, ясно, – с готовностью закивала Таня и спросила, понизив голос почти до шепота: – Леша, ты здесь с заданием, правда?
Те опять переглянулись.
– Иди-ка сейчас домой, Николаева, – сказал Кривошеин, – и подожди нас там.
– Хорошо, – обрадованно согласилась Таня, но тут же вспомнила об адресах. – Ой, Леша, сейчас я не смогу, мне нужно еще в несколько...
– Тебе что сказано? – свирепо прервал Володя. – Иди и жди нас дома!
– Тише, тише, – сказал Кривошеин, – только не волноваться. Ты ступай, Николаева, дела свои закончишь после, только никуда по дороге не заходи. Договорились?
Таня послушно кивнула и отправилась домой.
Когда она пришла на Пушкинскую, Глушко с Кривошеиным были уже там. Очевидно, пробрались каким-нибудь коротким путем. Кривошеин сидел за столом, курил, Володя с недовольным видом расхаживал по комнате. На Таню он даже не взглянул. Она сбросила пальто и присела к столу, выжидающе глядя на бывшего комсорга.