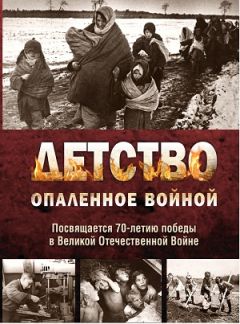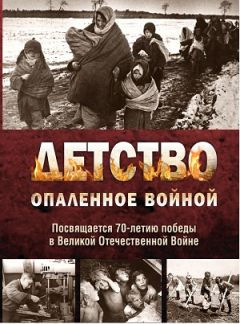Елена Ржевская - За плечами XX век
В Охотном ряду на конечной остановке я сошла с троллейбуса. Мой путь – через Красную площадь. Площадь в снегу, снег не расчищен, дорога укатана изредка проезжающими машинами. У Мавзолея – неподвижные часовые в черных тулупах. Сугробы снега за оградой, где покоятся герои революции.
На Спасской башне пробило одиннадцать. По чугунной ограде Василия Блаженного трепыхался плакат…
Было очень морозно. Снег сек лицо. Низко свисало зимнее небо, прикрывая от самолетов.
У Москворецкого моста я обогнула противотанковое заграждение и спустилась в Зарядье. Здесь, в доме № 11, узком и длинном, как каланча, у нас пункт сбора. Мы условились встретиться на квартире у Митькиной родни.
На мой звонок дверь открыл Гиндин.
Дама Катя запаздывала. Мы дожидались ее и Митьку со Старшиной, получающих на нас продукты, сидя с краю матраца, крытого ковровым покрывалом, отчего-то заробев и тихо переговариваясь. Здесь, видно, жила молодая семья, еще только набиравшая силу. Свежие обои и блестевший лаком буфет еще не вытрепало за военное полугодие. Здесь топили исправнее, чем в нашем доме, и было непривычно тепло. Но самым непривычным было то, что тут в квартире еще сохранилась полная семья. Мужчина, ушедший на работу, и женщина, возившая по комнате коляску. За все дни в Москве я впервые увидела маленького ребенка, их строго обязывали эвакуировать. И этот, почти подпольный, явившийся навстречу всем военным невзгодам, приковал к себе. Он и его мать – молодая женщина в байковом платье, с мягким бледным лицом. Посреди военной, мерзнущей, недоедающей, малолюдной Москвы она возит и возит взад-вперед коляску с таким спокойствием, что чувствуешь: вот он, центр ее жизни.
Пришли Митька и Старшина, груженные полученным на всех нас продовольствием, и следом Дама Катя. Распихиваем по рюкзакам концентрат каши, рыбные консервы, сахар и хлеб.
– На пять маршевых суток подлежит распределению, – важно сказал Старшина.
Мы простились с хозяйкой и, цепляясь за косяк двери разбухшими рюкзаками, покинули квартиру. Двинули на вокзал.
Глава последняя
1
На разъезде под Тулой комендант впихнул нас в переполненную теплушку. Тут ехали раненые. Их везли, как ни странно, ближе к фронту – на узловую станцию, откуда теплушку прицепят к составу, уходящему на восток.
Было темно, жарко, нещадно калили железную печку. Стонали и ругались раненые. Звякали сцепы. Хвост состава вихлял, и нас мотало в теплушке.
Мы с Катей забились в угол на верхних нарах, обнялись и уснули. Просыпались мы ночью от грохота раздвигаемых дверей. Холод валил к нам сюда. А в раздвинутых дверях среди бегущих мимо звезд видна была черная спина, окутанная клубящимся морозом. Это кто-то из раненых вставал за нуждой. Двери сдвигались, нас укачивало. И опять мы просыпались от грохота – и в щели над спиной раненого уже серело утро.
На станции Плеханово мы сошли, теплушку с ранеными отцепили.
Все же мы проехали с тем же составом еще сколько-то. И стоп. Рюриково. Дальше участок дороги не восстановлен.
Мы шли по шпалам. Было глухо, отъединенно. Железнодорожное полотно, по которому мы шли, то опускалось, и тогда белые откосы вставали по сторонам, замыкая нас в ложбине, а ветер, проходя над нами, теребил на откосах черные прутья кустарника, высунувшиеся из снега. А то оно поднималось вверх, и тогда – если не загораживали лесные насаждения – разбегались вдаль такие снежные просторы, что у нас, возвышавшихся над округой, дух захватывало.
Много ли времени прошло с тех пор, как мы выехали в санях на Волгу? Кажется, давным-давно это было.
Шагай, дыши в колючий, заиндевелый, в свой цивильный шарфик, укрывающий лицо, поглядывай под ноги, чтоб не споткнуться. Чуть зазевался, замыкающий – Старшина – на пятки наступает.
– Держись в строю! Отлабали полпути всего.
Что с него возьмешь? Лабух. Но мы вроде породнились с ним. Ведь из всех идущих сейчас по шпалам мы ничьей другой бабушки не повидали. И еще вот Митькину родственницу с коляской.
В сущности, каждому нужно из всего хаоса что-то окантовать – свой центр жизни. И у нас он есть – война. Но война неоглядна, не ухватишь, сам в нее канешь, затеряешься.
Пока мы впятером, это все еще земля обетованная. Движемся цепочкой по железнодорожному полотну. Будка стрелочника из сугроба выглядывает. Колея ведет – не собьешься. Впереди Митька, за ним Гиндин, путаясь в полах шинели. Дама Катя с портфелем и я. Замыкает Старшина.
Взорванный мост на пути. Мы обогнули его и вышли на тракт Москва – Калуга. Начались третьи сутки нашего пути. А до войны из Москвы в Калугу поезд доставлял, кажется, за семь часов.
Изредка нас обгоняли грузовики. По сторонам тракта – присыпанная снегом разбитая техника врага. Здесь, значит, были бои дней пять назад.
Изуродованные танки Гудериана.
Мы читали о них и слышали по радио, видели их фотографии в газетах. И все же это что-то совсем другое… Можно смахнуть снег и ощупать рукой в варежке почерневший, покореженный металл. Поглядеть на пробоины в броне. «Ахтунг, панцер!»
Мы пошли дальше. Мороз гнал нас вперед. Танки генерала Гудериана засыпало снегом.
Свернули с тракта, и теперь мы шли по санной колее, никто не обгонял нас – машинам здесь не пройти.
Повстречались розвальни, и мы сошли в сторону, в снег. Везли раненых, прикрытых соломой. За розвальнями бежал вприпрыжку, пристукивая ботинком о ботинок, чтоб согреться, долговязый солдат в короткой шипели, хлеставшей широким подолом по ногам, прижав к груди перевязанную руку. Из серого шлема на миг глянули на нас измученные, по-детски голубые глаза, и уже разъединило нас, и за снегом он почти совсем неразличим, только скачущие черные, в обмотках ноги, прямые, как циркуль.
Идем молча, торопимся – поскорей бы до обогрева какого дойти. Руки коченеют, жжет лицо ветром.
Черный завалившийся овин, голые трубы, зачерненные пожаром, торчат из белого снега. Нигде ни дымка… Дальше, дальше!
Нигде, сколько хватает глаз, нет жилья. Только черные остовы изб. Закопченные трубы – маяки бедствия на засыпанной снегом земле.
Снег перестал, но стегает ветер – дорога идет полем. Шарф, замотанный вокруг лица, задышан, усыпан льдышками, они жгут.
Алексино. Опять торчат мертвые трубы. Но тут должна же быть станция. Если и нет станции, коменданту положено быть.
Тычемся в темноте, ищем станционную службу. Я наткнулась на домик, дверь нашарила – дверь под ветром легко поддалась, и я вместе с нею – туда, через порог. Надсадный окрик навстречу:
– Без дров никого не впускайте!
Чей-то махорочный, хриплый голос умиротворяюще:
– Это женщина.
Я, как истукан, шагнула в тесноту жилья, в солдатский дух, в благословенное укрытие – и застыла. Ворочаю из-за шарфа скованными морозом губами:
– Здравствуйте! – Стаскиваю с плеч рюкзак.
– Без дров никого не впускайте! – опять крикнула замотанная в платок женщина. – У меня дети больные!
Она загораживает собой стол, на котором сидят двое маленьких ребят. Женщина и дети – коренной здесь состав. А на полу под стеной – махорочные, пришлые, набились обогреться.
Из бутылочки, поставленной на косяк, торчит зажженный фитиль, огонек подсвечивает людское скопище и оконную раму над столом, затянутую мешковиной с черной свастикой. Эта немецкая тара с черным, зловещим клеймом отражает, как экран, дрожание пламени.
Опять и опять ударяет холодом в растворенную дверь, и тупо переступают порог чьи-то закоченевшие ноги. Женщина, стараясь загородить собой детей от холода, исступленно твердит:
– Без дров никого не впускайте!
2
Поезд, которого ожидали на станции Алексино, застрял в снежных заносах и не подавал о себе вестей. Дощатый станционный домик кишел людьми. Сидели на узлах, на мешках с мерзлой картошкой.
Опасались к ночи десанта. Вызванный к коменданту какой-то дяденька в заячьей ушанке прошаркал к столу, браво тряхнул головой:
– Есть, спать вполуха!
Заслышав наконец прибывший состав, все мы притихли.
Потом разом завозились, нервничая. Бабка в черном тулупе, примеряя на себя мешок с картошкой, узел и бидон, согнулась, вздохнув:
– В ногах настойчивости нет.
Нас пятерых и женщину с ребенком комендант усадил в теплушку. Остальные остались на путях, и среди них бабка, согнутая под картошкой, узлом и бидоном…
Мы попали в штабную теплушку – на КП батальона. Это прибыла на фронт сибирская кадровая дивизия. Здесь все нам было внове: белые полушубки, автоматы и короткие лыжи. Мы сидели у чугунной печки посреди теплушки, ели гречневую размазню с салом, слушали рассказы о Сибири, об оставленных там девушках.
Молодой комбат, наш сверстник, отдавал приказания в телефон, и его лихой голос разносился в проводах по всему поезду. Писарь мусолил карандаш долго, раздумчиво, строчил в клеенчатой тетради с надписью «История батальона» – про боевую готовность и про сильный мороз, про то, что завтра прибудут на место и вступят в бой.