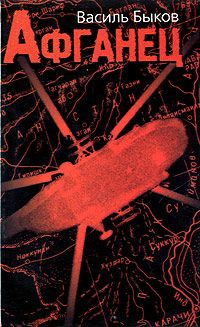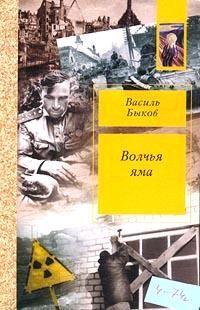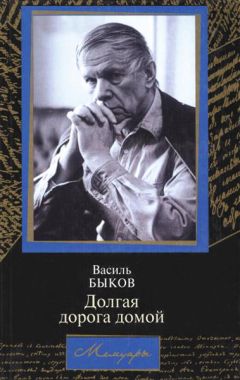Василь Быков - Подвиг (Приложение к журналу "Сельская молодежь"), т.2, 1981 г.
— Ваше счастье, А по фильмам? Дай бог, десяток, верно?
— Не считал.
— Хорошо, пятнадцать, — уступила она. — А их еще двести. Сколько серости наклепали.
— В том числе и ваш?
— А вы думаете, меня Феллини пригласил? Дудки! Косоворотов. Я его видела один раз в Доме кино. Самодовольный меланхолик.
— Может быть, вы судите пристрастно? — спросил Лаврентьев. Ему не приходилось слышать фамилию Косоворотов. Впрочем, он редко ходил в кино.
— Пристрастно? Да я сама снисходительность! Но когда я представлю, как такой человек будет мне приказывать, диктовать, умничать: «Не вижу!», «Не верю!..»
И она передразнила неизвестного Лаврентьеву режиссера.
— Тяжелое у вас положение, прямо безвыходное, — посочувствовал Лаврентьев.
— Ну что вы! Безвыходных положений не бывает.
«Откуда ей знать, что бывают!»
— Где же выход?
— Всю свою ненависть к режиссеру я изолью на гестаповцев. На их месте я буду видеть его и поражу всех своей искренностью.
— Не упрощаете ли вы свою задачу?
— Почему? В конце концов, гестаповцы тоже были бездарные люди, которые хотели всех заставить делать по-своему. Конечно, всякое сравнение хромает, но для меня это важная мысль.
Однако для него важнее было другое.
— Почему вашу картину решили снимать именно в этом городе?
Он все еще надеялся...
— Да ведь там все это и происходило! Хотя, я уверена, совсем не так, как в сценарии.
Значит, напрасно надеялся. «Повезло, ничего не скажешь, — подумал он о себе, как привык, о холодной иронией. — Тридцать лет собирался и не смог выбрать лучшего времени. Но самолет не поезд. С него не сойдешь, чтобы вернуться с полпути. А, впрочем, какая разница? Эта девушка и не подозревает, как она права. Все будет не так... Во всяком случае, то, что касается меня. Просто еще одна картина, «в основу которой положены...». Но что положено? — Ему стоило труда не попросить полистать сценарий. — Я не должен в это вмешиваться».
Лаврентьев спросил только:
— Кто же написал об этом?
— Местный музейный работник. А вы не читали в «Экране»?
— К сожалению...
— Не жалейте. Ничего особенного.
«А прочитать все-таки стоило...»
— И кто же у вас в центре событий?
— В центре, конечно, герой, наш разведчик.
Лаврентьев не смог не спросить:
— Наверно, он работает в гестапо?
— Нет. После Клосса и Штирлица это уже не кушается.
«Слава богу!»
— Он приезжает в город, чтобы произвести шикарный взрыв. Ба-а-бах! — У нее была страсть к озвучиванию. — На воздух взлетает целый театр с фашистами.
Вот оно что! Ну как же он сразу не сообразил?! Нервы подвели... Конечно же, это о Шумове. Но ведь есть и Лена... Эта девушка будет играть Лену? Неужели Лену?
— А что делает ваша героиня?
— По правде сказать, это второстепенная роль. Но ведь маленьких ролей не бывает. Бывают плохие актеры...
— Разумеется. И она погибает?
— Да. Хотя расстрел решили не показывать. Это уже столько раз было, и всем надоело.
«Пожалуй... Если только тут уместно слово «надоело»... Значит, расстрела нет. Что же есть?»
— В последней сцене она в камере накануне казни. Пишет письмо.
— Письмо? Кому?
— Соратникам, подпольщикам, конечно.
«Совсем не «конечно», совсем...»
— Кто же мог передать такое письмо?
— Наверно, кто-нибудь из охранников. У них там всевозможные типы служили. Подкупила какого-нибудь подонка...
Лаврентьев вспомнил, как опустил листок с письмом в карман мундира. Письмо к отцу, а не к подпольщикам...
Он постарался погасить воспоминания.
Важно, что картина о Шумове, о взрыве. А это был подвиг. Настоящий. О нем нужно рассказывать.
— Кто же играет главного героя?
Она назвала известного актера.
— Любопытно.
— Ну вот, и на вас действует магия имени. А внешние данные? Разве он похож на смельчака?
Тут она была не права. Во внешности Шумова не было ничего героического. У него было простое, грустноватое лицо человека, которому нечасто приходится смеяться. Кроме того, ему уже стукнуло сорок, а в то время сорокалетние выглядели постарше нынешних, что все еще числятся да и сами себя неизвестно почему принимают за молодых. И даже теперь, когда Лаврентьев был на полтора десятка лег старше погибшего Шумова, тот не вспоминался ему молодым, а тем более лихим и отважным. Он был иным, был человеком долга, а это совсем другое, это не так-то просто читается на лице. Однако известный актер, непохожий на смельчака, мог раскрыть то, что не бросается в глаза, и Лаврентьеву выбор показался удачным. Но он не стал спорить с девушкой. Он чувствовал усталость и понимал, что волнения только начинаются.
Лаврентьев взглянул на часы:
— Подлетаем, кажется.
Она выглянула в солнечное пространство.
— Какая красота! Небо чистенькое, без облачка. И море уже видно. Ой, люблю море...
Запоздавшая бортпроводница, далеко не юная, но со следами былой плакатной привлекательности, появилась в проходе с подносом...
Заходя на посадку, самолет накренился, и Лаврентьев увидел внизу край зеленоватого моря и белые высокие здания на берегу. Меньше всего эта нарядная картинка в пластмассовой рамке иллюминатора была похожа на то, что хранилось в его памяти... Потом все заторопились к выходу, нарушая положенный порядок, попутчица-актриса проскочила вперед, а Лаврентьев оказался на высокой площадке трапа почти последним. Отсюда он оглядел летное поле с большими, кажущимися на земле неповоротливыми воздушными машинами, стеклянную стену аэровокзала с мигающим циферблатом современных часов, ярко окрашенные автопоезда, развозящие пассажиров, и испытал недоумение человека, опасающегося, что он ошибся адресом.
Пройдя через центральный зал, со схемой воздушных рейсов, выполненной в виде большого мозаичного панно, в верхней части которого были изображены олени, а внизу, на юге, верблюды, Лаврентьев вышел на площадь и по пути к стоянке такси еще раз увидел актрису. Она стояла возле микроавтобуса с эмблемой киностудии на дверце.
Было жарко. Однако здесь, за городом, в пропитанный запахом машин воздух еще примешивались и сухой аромат нераспаханной вокруг аэропорта степи, и свежесть близкого моря. Они как бы доносились из прошлого, вселяя надежду, что не все подвластно быстротекущему времени, так усердно поработавшему в этом обновленном городе.
Таксист, разбитной южанин, одной рукой придерживая баранку, а другой ловко орудуя сигаретой и спичками, покосился на Лаврентьева и, заметив, как смотрит тот в окно, заговорил обрадованно:
— Приезжего сразу видно... Ну как дорожка наша? — спросил он, кивая на широкое шоссе, по которому машина катилась легко и свободно. — Весной закончили. Теперь благодать, а раньше что было!.. Асфальтик узенький, выбоина на выбоине... Не представляете!
Нет, асфальтированную дорогу с выбоинами Лаврентьев здесь не представлял. Он помнил булыжник, деревянные столбы и давно не беленные мазанки. А теперь они мчались по ровному бетону между рядами стройных стальных мачт с сигарообразными светильниками. Не было и хат под соломой. На их месте расположились модерновые сооружения, построенные и раскрашенные каждое на свой манер: «База отдыха «Чайка», «Пионерский лагерь «Салют», «Водник», «Изумруд», «Солнечная»...
— Зона отдыха, — с удовольствием пояснил шофер.
За пестрыми заборчиками бронзовые люди играли в волейбол, пили пиво, нежились в гамаках и шезлонгах.
— Впервые у нас?
— Нет. Во время войны довелось.
Шофер присвистнул:
— Давненько. Освобождали?
— Отступал.
Точнее он ответить не мог.
— Ну, тогда вам вдвойне приятно смотреть. Не зря кровь проливали. Я-то помоложе. Только развалины чуть-чуть помню. А потом как начали строить! Да увидите...
И он свернул на незнакомую Лаврентьеву дорогу, тоже удобную, широкую, пересекавшую скопление уже построенных и строящихся жилых домов. Среди этих похожих друг на друга зданий Лаврентьев потерял ориентировку и с трудом представлял, откуда подъедут они к гостинице, где для него был заказан номер и которая, как он знал, находилась в центре.
Последний дом микрорайона мелькнул справа, и машина вырвалась на обширное, еще не застроенное пространство. Таким оно показалось Лаврентьеву в первые секунды, но он тут же понял, что пространство это не пустырь, дожидающийся команды на застройку, а нечто организованное рядом сооружений, которые он воспринял сначала по отдельности и лишь потом объединил в целое, в ансамбль, спускавшийся слева от шоссе в воронкообразную обширную котловину, некогда естественную, а теперь заметно подправленную человеческими руками — склоны были заботливо одеты ярким непривычным для сухого юга дерном, по краю их опоясывали ровные ряды недавно высаженных деревьев. И из-за этих деревьев вдруг вырвалась, ударила в глаза Лаврентьеву огромная скульптура, поднявшаяся со дна котловины. Три бетонные, грубо обработанные фигуры серыми глыбами застыли там в предсмертной муке: солдат вскидывал над головой обмотанные колючей проволокой руки, сраженный, лежал старик, и женщина прижимала к груди поникшего ребенка.

![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](/uploads/posts/books/147491/147491.jpg)