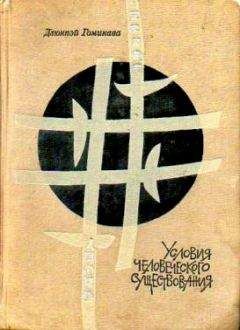Вильям Александров - Чужие и близкие
— А, дьявол с ним, пускай бы ругался — это ничего на заводе, иначе нельзя, наверно. Только бы человеком он был!
— Погодите! — прерывает нас Гагай. — Вы послушайте лучше.
Он берет с тумбочки маленькую книжку, которую держал в руках, когда мы пришли, листает се, находит там что-то.
— Вот послушайте.
Приедается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь и сводишь на нет.
Ты на куче сетей.
Ты курлычешь,
Как ключ, балагуря,
И как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой.
Ты в гостях у детей.
Но какою неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!
Он читает неторопливо, размеренно, глубоким, вибрирующим голосом, совсем не похожим на его обычный голос, и я впервые в жизни чувствую, какой необъяснимой физической силой могут обладать сложенные особым образом слова — они входят в грудь, как, наверное, входит стальная шпага, я чувствую их леденящую остроту и упругость, и дыхание перехватывает от этого…
… Пресноту парусов
Оттесняет назад
Одинакость
Помешавшихся красок,
И близится ливня стена,
И все ниже спускается небо.
И падает накось,
И летит кувырком,
И касается чайками дна…
Я не знаю, что испытывают сейчас мои товарищи, но мне кажется, у каждого в душе что-то сейчас переворачивается. У них сейчас какие-то новые лица. Я еще не видел такого лица у Миши, с него как бы сошло сонное спокойствие, он весь сейчас напряжен и натянут — что-то силится уловить, схватить.
И Махмуд такой же, только в его большущих черных, как сливы, глазах я читаю и восторг, и удивление, и испуг какой-то он, видно, еще не все понимает, но он, несомненно, чувствует эту силу и красоту.
А Синьор — так тот вообще замер, вытянув шею, чуть приоткрыв рот, как будто прислушивается к какому-то далекому пению….
И куда только девался Бутыгин с его матерщиной, и наши обсыпанные пылью грязные, промасленные спецовки, и бесконечные, бесчисленные пазы в кирпичных стенах, и голод, и холод, и война…
Гальванической мглой
Взбаламученных туч
Неуклюже,
Вперевалку, ползком
Пробираются в гавань суда.
Синеногие молнии
Лягушками прыгают в лужи,
Голенастые спасти
Швыряет
Туда и сюда…
Дух захватывает от этого простора, от этого буйного ритма, от этого насыщенного грозой воздуха…
Ах, как хорошо жить на свете!
7
Мы отпросились у Бутыгина и втроем пошли провожать Синьора.
Мы сидели на низенькой, врытой в землю скамеечке у ворот польского приемного пункта и ждали» Синьора. А из ворот то и дело выходили какие-то парни — одни держали форму под мышкой, другие сбрасывали с себя старье и тут же облачались в новенькое серо-зеленое одеяние. Они все весело и громко переговаривались по-польски, видимо, подтрунивали друг над другом, посмеивались.
Было часов десять утра, но солнце стояло уже высоко и начинало припекать. Середина улицы была залита яркими лучами, и только по краям, под чинарами, еще сохранилась прохладная тень. Мы сидим на скамеечке, колем плоскогубцами урючные косточки, жуем сладковатые пряные зерна, а под ногами журчит арык, и рядом переодеваются новоиспеченные польские солдаты, что-то кричат друг другу и смеются.
— Чего это они? — спрашивает Миша и закладывает в плоскогубцы косточку Щелчок — и зерно падает в ладонь, а скорлупа летит в арык.
— Один говорит: «Ты пойди сегодня к своей девице, погрейся. Скоро будешь в снегу по колено», — перевожу я. Я немного понимаю по-польски — уроки Синьора не прошли даром. — А другой говорит: «Хорошо еще по колено, а то, может быть, по пояс, отморозишь себе все, что ты тогда делать будешь?»
Солнце светит, арык журчит, сидят на корточках ребята в форме, посмеиваются, и трудно представить себе, что, может быть, через несколько дней они будут в бою. А вот и Синьор. Он выходит из ворот и останавливается, щурится на солнце, мы кидаемся к нему, собираемся поздравить, но у него какое-то странное лицо — то ли от солнца, которое бьет ему прямо в глаза, то ли…
— Нет, — говорит он, и я вижу слезы в его глазах, — они не берут меня, я им не нужен.
— Постой, как это не нужен? Ты ведь сам, добровольцем.
— Им нужны солдаты. А мою болезнь еще лечить надо. Операцию делать надо. Они не могут…
Мы молчим. Что тут скажешь… Сидя на корточках у арыка, молча глядят на нас парни в серо-зеленой форме. Они как-то примолкли все сразу на мгновение и только глядят в сторону Синьора. Какая-то странная, торжественная минута. В их глазах и сожаление, и участие, и еще что-то, я даже не знаю, как это назвать. И только потом, по дороге обратно, когда мы все четверо медленно идем в сторону комбината, я вдруг догадываюсь.
— Может, оно и к лучшему, — говорю я Синьору. — Ты же не знаешь, какая у них будет судьба.
— Какая судьба? Я не знаю, и они не знают. Но у меня и у них должна быть одна судьба, понимаешь?
— Понимаю.
— Я себя сам… Я сам себя будут не уважать, понимаешь?
— Это чепуха… Чепуха это все ты болтаешь, — волнуется Махмуд, — ты же не виноват. И потом — ты же на самом дело не можешь, помнишь, как там было, когда насыпь делали?
— Вот что, — говорю я, — есть один шанс, одна надежда.
— Какая?
— Надо поговорить с Генрихом — он же хирург. Очень хороший хирург.
Они все останавливаются как вкопанные. Стоят и смотрят на меня так, словно я пророк какой-то.
— Это же… Это же великая идея, — восклицает Миша и тормошит меня. — Ты же… Ты же просто гений, Славка. Пошли к Генриху! Он не откажет, я уверен.
* * *Вернулась Женька. Я пришел с работы, а она сидит посредине нашей карусели, прислонившись спиной к столбу, и плачет, а бабушка и Анна Павловна ее утешают.
— Ну ладно, Женя, будет тебе, ведь не умерла же твоя мама, жива она, — говорила Анна Павловна и гладила Женьку по голове. — Ну вышла замуж за другого — мало ли что в жизни бывает…
Но Женька не успокаивалась, плечи ее содрогались, а бабушка уговаривала ее выпить воды.
— Выпей, Женечка, глоточек сделай, сразу легче будет.
Она всегда была убеждена, что вода помогает в таких случаях. Но и вода не помогла. Женька отпила из стакана, чуть утихла, а потом плечи ее опять колыхнулись и она закашлялась. Она кашляла долго и надсадно, каким-то клокочущим глубоким кашлем, так, что даже у меня стало ныть в груди.
— Господи, Женя, — всплеснула бабушка руками, — где это ты так?
— А, тогда, в степи… Я на снегу лежала, — сквозь слезы говорила она, всхлипывая. — Потом болела, меня выходил и… А вот кашель никак не проходит — вот уж сколько…
— Кто ж тебя выходил?
— Нашлись люди… Дед Митрич, Шурка, доктор один…
— А тетя Поля? Куда она девалась?
— Не знаю. Как в степи меня тогда бросила, так с тех пор ничего не знаю.
— Почему ж ты сразу не вернулась, Женя?
— Сперва плохо еще себя чувствовала. А потом на станцию меня устроили, телеграфисткой я научилась. Работала, деньги получала. И паек…
Она немного успокоилась. Видно, рассказ о том, что было, утешал ее как-то, а мы наперебой стали задавать вопросы. Только Иван Платонович стоял в стороне у окна и молча курил под шумок: занятая Женькой, Анна Павловна не обращала на него внимания.
— Ты хоть бы знать о себе дала, — сказала Анна Павловна. — Ведь мать убивалась как, себя корила. Она, может, оттого и…
Анна Павловна не договорила, но все мы поняли, что она хотела сказать.
— Я посылала телеграмму, — вздохнула Женька, — а ответа не получила. Затерялась, наверно.
— А больше не писала?
— Нет. Больше не писала. А вы откуда узнали, где я?
— Мы?
Анна Павловна, бабушка и я переглядываемся. Мы ничего не знали. Мы понятия не имели, где она.
— Ты о чем, Женя?
— Ну, письмо, которое пришло в милицию. Меня же милиция вызывала.
Мы опять переглядываемся. Ничего не можем понять. И тут взгляд мой падает на майора. Он сосредоточенно курит, глядя в окно, но одним глазом косит сюда и прислушивается. Я вижу, как он прислушивается.
— Иван Платонович, вы ничего не писали насчет Жени?
— Я запрос сделал, — говорит он хрипло. — Попросил милицию начать розыски. Ну, вот они, видимо, и нашли.
Так вот оно, какое дело! Мы тут ахали, охали, горевали, вспоминали, а он пошел и заявил куда надо — и вот, пожалуйста.