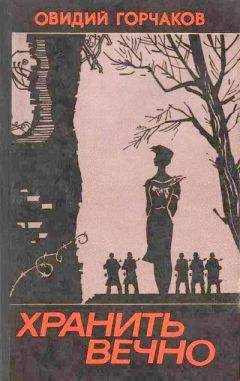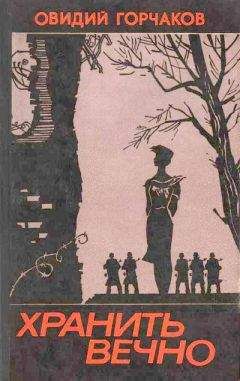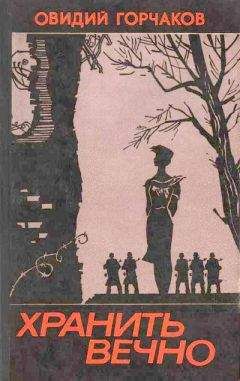Овидий Горчаков - Вне закона
Александр Ефимов нашел во мне хорошего слушателя. «Это большое и редкое искусство — уметь слушать», — похвалил он однажды меня. И, очень довольный этим моим новоявленным талантом, он охотно изливал передо мной душу. В катакомбах этой души я быстро терял дорогу, и потому Ефимов казался мне человеком незаурядным, сложным и тонким. И как было его понять! Все в отряде, например, без удержу хвалили мирную довоенную жизнь, а Ефимов горько усмехался:
— Мирная жизнь! Это теперь кажется, что до войны не жизнь, а райская малина была. «До войны, до войны!» А в каком доме мы жили до войны? Витрина наших достижений — портрет домоуправа, «Красный уголок» с музыкой Дунаевского, примусы на коммунальной кухне, а в подвале, за решетками, стон и плач… Капитальный дом с квартирами для бедных жильцов но контракту на тысячу лет! А Достоевский говорил: «Да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу!» Недаром оккупанты напечатали избранные места из Достоевского в своем «Крестьянском календаре». Но великая душа тем и велика, что в ней умещается и свет, и тень, и добро, и зло…
— «Мирная жизнь»! — Ефимов говорил с коробящим меня озлоблением. — Она была у меня почти такой же «мирной», как у Федора Михалыча: дело петрашевцев, смертный приговор и — у самого эшафота — всемилостивейшее объявление о замене смертной казни каторгой… А я, между нами, тоже побывал в руках у молодцов, у сторожей этого капитального дома, которые… которые в душе, наверное, смеялись над словами: «Человек — это звучит гордо!» А за что? Свалился у меня в редакции усатый портрет — и я выругался по-русски… А прежде я был такой же пылкий и чистенький романтик, как ты, Витя. Вот меня и тянет к тебе… Только — вот беда! — любил я, как Федор Михалыч, заглядывать в темные и угрюмые углы, питал страсть к униженным и оскорбленным, даром что редки и не типичны они у нас, не понимал, почему разрыв между реальной жизнью и тем, что от меня ждал редактор, все ширился и ширился. После того случая с портретом все обратили в «идеологическую диверсию»!.. А потом душевный перелом, почти такой же перелом, как у Федора Михалыча — в сторону казенного патриотизма. Вы просите песен? Извольте, но уже не о бедных людях, не об идиотах и бесах, а песни о нашем мощном поступательном движении вперед! Но зачем я буду петь эти песни теперь, когда горит и разваливается «тысячелетний» дом? Он горит, и бедные жильцы его высыпали на улицу. Пожар! Пожар! Каждый тащит что может, спасает родненьких клопов и тараканов. Глядят с улицы на дом: какой же он расхороший, какой раскрасивый был! Да отсохни у меня рука, коль я хоть одно ведро на пожар принесу. За топор надо хвататься, за топор!.. А потом строить заново, строить по-новому, — так, как мечталось с самого начала…
— Вот капитан наш, умница, он понимает меня. Мы с капитаном не идеалисты. Здесь, в тылу врага, мы должны действовать не так, как хотели бы эти донкихоты, Полевой и Богомаз. Мы должны бить врага его собственным оружием!.. «Война все спишет!» — сказал мне капитан.
Ефимов говорлив и откровенен не только со мной. Все чаще я вижу его с нашим капитаном. Они то в шахматы играют, то подолгу беседуют в штабном шалаше, коротают вечер вдвоем у костра, ездят вместе в подлесные деревни. И часто, проходя мимо них, я по лицу Ефимова, по его глазам, по звукам голоса, по отдельным словам убеждаюсь, что он разводит с Самсоновым ту же мудреную философию, что и со мной. Уже несколько раз капитан назначал Ефимова старшим группы, посылал ночью на разведку в Вейно, сделал даже помощником командира отделения. «Значит, все в порядке! — успокаиваю я какое-то глухое, внутреннее беспокойство. — Ведь многие партизаны говорят о наших промахах и недоделках куда прямей и резче Ефимова, а воюют геройски, в любую минуту готовы отдать жизнь за Родину!»
2Тут и там на поляне сидят и лежат в одиночку и живописными группами партизаны. Читают немецкие газеты на русском и белорусском языках, переписанные от руки сводки Совинформбюро, чистят оружие или просто спят. Со стороны кухни доносится дразнящий запах жареного лука. Скоро обед… Опять воет «Разлука»:
Зачем нам разлучаться,
Зачем в разлуке жить?..
Щелкунов встает — он только что проиграл трофейные часы. Он выворачивает с сокрушенным видом карманы хлопчатобумажных шаровар и, не обнаружив в них ни гроша, кричит:
— Блатов, коня!
— Куда собрался? — смеясь спрашивает самый заядлый в отряде картежник вейновец Сандрак, пересчитывая и аккуратно сортируя выигранные деньги.
— К бургомистру какому-нибудь. За деньгами!
Разлука ты, разлука,
Чужая сторона…
По поляне идет Боков, ведя под уздцы расседланную кобылку. Его окружают десантники.
— Ребята, сюда! — кричит Барашков. — У Чернышевича с немцами бой был!
— Давай, давай. Боков! Рассказывай!
Всех нас интересуют боевые дела наших однокашников-десантников за Проней. Но не так-то легко заставить Бокова заговорить.
Меня возмущает Боков, возмущают его налитые румяные щеки, сонный взгляд. Вечно зевает, жует, первым засыпает, последним просыпается. После нескольких стычек с Самсоновым он, кажется, махнул на все рукой. Бывший заместитель командира группы, по-видимому, безропотно принял свою отставку: ответственности меньше! Он добросовестно исполняет свои обязанности связного между Самсоновым и Чернышевичем, перепоручая командование отделением, командиром которого он числится, своему помощнику Ефимову. Молчать он может днями, неделями. Приказания, правда, исполняет автоматически, точно и в срок, как заведенный. Есть такие люди: исполнитель хороший, а инициативы никакой. До войны Боков ударно работал на строительстве метрополитена, был награжден орденом — значит, хорошо им там руководили. Трудно объяснить другое: почему этот тугодум стал десантником? Нам требовались люди незаурядной воли, энергии, исключительной предприимчивости. Пожалуй, не все мы, новички, могли похвастать этими качествами, зато у нас есть молодой задор, есть сметка…
— С Чернышевичем, — неохотно бурчал Боков, — неприятная история приключилась… Некогда рассказывать — мне надо ехать встретить Бажукова этой ночью… Ну да ладно…
По словам Бокова, товарищи за Проней действовали в своем первоначальном составе, не вербуя добровольцев, согласно указаниям «Центра», заинтересованного прежде всего в получении от нас разведывательных данных. Неделю назад сельская учительница, связная Чернышевича, сообщила ему о подготовке немцами карательной экспедиции.
— Ну, устроил Чернышевич засаду в лесу, ждет фашистов…
Боков прерывает рассказ на полуслове, хмуро глядит через поляну.
3К нам подходят двое — Самсонов и Кухарченко. Самсонов мрачен, лицо его выражает решительность. Лицо Кухарченко ничего не выражает.
— Десантники! — прерывает Кухарченко Бокова. — На закрытое собрание!
Десантники гурьбой идут за командиром. Не узнать теперь прежних новичков — Щелкунова, Терентьева, Сазонова. Все они так и пышут удалью. Куда девалась их прежняя робость, неуверенность в себе. В движениях, в походке и, конечно, в одежде лихое молодечество: пилотки, фуражки — если они есть — сдвинуты набекрень, воротники расстегнуты, рукава гимнастерки или мундира засучены по локоть. Даже у застенчивого как девушка Коли Шорина небрежно перекинута через плечо портупея, на комсоставском ремне висит кобура ТТ, под ней качается, поблескивая, немецкая шомпольная цепочка. Все одеты с партизанским шиком, каждый — передвижная выставка трофеев, фрицевские часы, фонарики, тесаки. Штаны в засохшей грязи и травяной зелени, голенища хромовых сапог приспущены до отказа, и из них торчат складная ложка, рукоять финки, а то и рожок немецкого автомата…
— Нам предстоит решить важное дело, — бесстрастным тоном начал Самсонов, когда все мы расселись вокруг него на прогалине шагах в двадцати от лагеря.
Капитан одет в новенькое комсоставское обмундирование без знаков различия. Почти все десантники бледны — эти полуночники почти не видят солнца, отсыпаясь после ночных заданий в тени, а капитан успел уже загореть. Ярко-белый кант свежего подворотничка оттеняет крепкую, загорелую шею. Поблескивают полированные пуговицы, пряжки фронтовых ремней, черная кобура парабеллума, лакированный козырек фуражки. Он сидит, руками обхватив колени, хмуро пожевывая зажатый в зубах зеленый стебелек. Говорит сквозь зубы, негромко, но внятно:
— Все в сборе?
— Все, — отвечает, неизвестно чему ухмыляясь, Кухарченко. — Кроме Нади Колесниковой.
— О ней-то мы и будем говорить. Говорить серьезно. Я опираюсь на вас, на десантников. Вы ядро моего отряда. Я один, а вас десять. Десять пальцев на моей руке, — Самсонов растопырил пальцы правой руки, — которой я управляю отрядом. — Он обвел нас взглядом. Десантники потупились. — Все вы, превысив мои ожидания, неплохо освоились с суровыми условиями вражеского тыла, вошли в колею партизанской жизни. Глядя на вас, — Самсонов жестко улыбается, — можно подумать, что вы всю жизнь партизанили. Некоторые, возможно, обижаются, что я не выдвигаю их на командные должности, не включаю, так сказать, в свой генштаб. Напрасно! Каждый получит по заслугам. Каждый! В том числе и Колесникова…