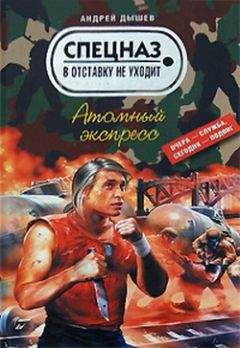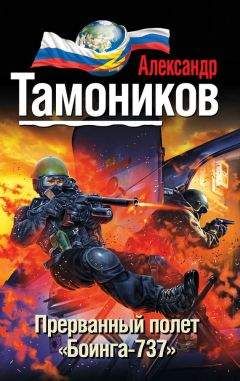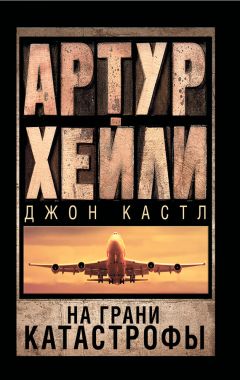Марин Ионице - На крутом перевале (сборник)
Вхожу в маленькую темную комнату. Буквально протискиваюсь между кроватью и столом, заваленным бумагами и книгами. Плита в печи застлана газетой, на ней деревянное корыто с уже подходившим тестом для хлеба. Прохладно, как в церкви.
Я несколько смущенно начинаю объяснения:
— Вот зашел к тебе… Ну, как дела? Чем занимаешься?
Горбатый блеет, как это он делает обычно, когда хочет засмеяться:
— Ковыряю в носу!
И опять — «бе-бе-хе-хе». Затем, сжав губы, погружается в свои мысли. Даже кажется чем-то опечаленным, но я знаю, о чем он думает сейчас.
«Почему люди коварны и так глупы? Зачем они устанавливают между собой столько барьеров? Ты пришел — знаю зачем пришел, а все же спрашиваешь — так, лишь бы спросить, — как дела? И ты хочешь, чтобы на этот банальный вопрос я ответил искренностью, начал расшаркиваться — смотри, это вот так, а это вот этак. Ты ни о чем не спрашиваешь, а просто бросаешь дежурную фразу… «Как дела?» — «Спасибо, хорошо». Я был бы глупцом, если бы на эту банальность раскрыл тебе душу. Ты даже не хочешь наморщить лоб, чтоб сказать откровенно: послушай, мне очень нужен твой совет. Нет, дорогой, с оракулом так говорить нельзя. Вначале коленопреклонись перед храмом, ляг ниц перед божеством и принеси жертву — положи свою гордыню на горящие угли, олимпийским богам нравился этот дым. А если ты все равно ничего не поймешь, то это уже другой вопрос. Хотя, как говорится, прийти волом и уйти коровой — это не одно и то же».
Горбатый относится с нескрываемым презрением к тем молодцам, красивым, с иголочки одетым, которых ничего, кроме баров и развлечений, не интересует. И я в его глазах один из них.
— Я ухожу, — говорю ему убедительным тоном. — Не нахожу той взаимности, о которой мечтал.
Горбатый вновь смеется:
— Да ну, пошел к черту! Ты не затем пришел.
— Именно затем!
— Тогда что же? — И, немного подождав: — Ты понимаешь, этот вопрос из категории полураскрытых, и ответ на него, как петушиная песня, не приходит, когда захочешь.
Поворачиваюсь, чтобы уйти.
— Благодарю тебя, — говорю с порога, чувствуя дыхание Горбатого за спиной. — Ты тоже несчастный, терзающийся человек.
— А на что же ты рассчитывал? Найти здесь Прометея? Нет, парень, я не Прометей и не Геркулес. Может, немного Эзоп — тот был некрасив и уродлив и имел длинный язык… Я козявка, которая шевелит лапками, чтобы не умереть. Ну и?.. Нет существенного различия между нами? Ты, я… Одни жуки — притворщики. Они умеют прикидываться, имея крепкую спину, способную выдержать удар, и к тому же проворные ножки. Адаптация под средних — иначе не выживешь. И наоборот, шелковичные черви не нуждаются ни в чем. Перед ними всегда кладут свежие листья. Не каплет дождь, не испепеляет солнце. В помещении, где их содержат, поддерживается всегда соответствующая температура. Но все-таки червяк остается червяком. Я… ты…
* * *— Кто ты и откуда?
На больничной койке человек без биографии. В это трудно поверить. Единственное, что выглядело правдоподобно, так это потеря памяти в момент, когда он смотрел в лицо той страшной женщине в белом с косою за плечами, имеющей короткое и жуткое имя из шести букв.
Не-е-ет! Это произошло не тогда. От своего прошлого я отказался добровольно и намного раньше. Только мне одному известно, как пожирали меня дни, а точнее — ночи, их кошмары, превращая меня в подобие человека, тень солдата.
— Кто ты такой и откуда?
Молчу… Более чем уверен, что мне пропишут еще лекарства, чтобы все вспомнил. Но я должен выбрать сам — восстановить по доброй воле свою биографию или предоставить это медикам. Пока же воспользуюсь тем, что у меня в груди дыра величиною с кулак, а врачи заботятся о том, чтобы поставить на ноги своего пациента. Насколько я понимаю, теперь меня переведут в специальное отделение, где ремонтируют копилки памяти.
Это не означает, что все откладывается, что я освобожден от ежедневной проверки.
— Кто ты?
— Я солдат Вишан Михаил Рэзван.
— Откуда ты?
— Из войсковой части номер 14166.
— А в армию откуда пришел? Что делал до армии? Чем ты занимался в гражданской жизни? Кто ты?
Девушка. Боже, как она красива… Или, может, это мне только кажется… Студентка на практике… Послелицейские курсы медсестер…
— Никак не вспомнишь, совсем ничего? Ничего?
— Не надо так настаивать, барышня! Медики сказали, что мне нельзя переутомляться.
Кладет мне руку на лоб:
— Жара нет.
— Что еще хочешь узнать?
— Если ты устал, то…
— Ты очень любопытна, не так ли? Ну, как бы тебе сказать так, чтобы это прозвучало покрасивее? Ах да, профессиональное любопытство… Но почему ты убеждена, что тебе удастся сделать то, чего не удается врачам?
— Я…
— Ты просто любознательная девушка? Если ты так любопытна, то я могу раскрыть один секрет… Только ты не пугайся… Я — человек, который умер… Не от этой раны, а раньше — несколькими месяцами раньше… Когда мне выдали настоящую винтовку и патроны, я прицелился в того несчастного, меня бывшего, и — «ба-бах»… Аминь, царство ему небесное. Если больше нет меня бывшего, то откуда его взять?
— Но если ты знал его, то вспомни, кто он был?
— Заблудший человек… И это не делает ему чести.
* * *Горбатый паясничал. Было ясно, что он не преследовал никакой иной цели, кроме как спровоцировать меня. Он — букашка-притворяшка с твердой спиной и быстрыми ногами, нужными ему, чтобы бороться за существование, защищаться, выжить. Я же — объедающаяся личинка шелкопряда, которую держат в тепличных условиях. Как умеет эта уродина высмеять человека! Горбатый, который не сдал вступительных экзаменов в институт и казался физически беспомощнее нас всех… А я-то надеялся, что он поделится своей тайной — умением сохранять присутствие духа.
— Ты, я… мы тоже букашки.
— Не спорю…
Вошла женщина, которую я видел во дворе. Она вымыла руки и принесла поднос с двумя чашками и банкой вишневой наливки. Молча поставила на стол и вышла.
— Ну давай садись поближе. — Голос Горбатого показался мне необычно мягким. — Мы просто раздражены. Это, наверное, от жары, как ты думаешь?
Напиток был кисло-сладким и имел привкус крахмального спирта.
— Ты по-прежнему ставишь свои опыты?
Еще в школе у нас была общая страсть — биология. В углу деревянного сарая Горбатый оборудовал что-то вроде лаборатории. Там он терзал ради своих опытов мелкие живые существа. Он хронометрировал, сколько сможет прожить бабочка или муха без головы. Его интересовало, как происходит перерождение головастика в лягушку. Он обезглавливал лягушек и, когда они казались мертвыми, обнажал какие-то нервные центры на коже, прикасался к ним пластинками батарейки карманного фонарика, и маленькие животные тут же поджимали под себя лапки.
Но был опыт, который его интересовал больше всего. Он разрезал на мелкие части какое-то маленькое болотное существо до тех пор, пока оно не превращалось в молочную клейкую жидкость. Затем Горбатый ее процеживал. Через некоторое время жидкость отстаивалась и нашему взору открывалась все та же восстановленная болотная «чертовщина», как будто с ней ничего и не происходило. У Горбатого была лупа, но он еще мечтал и о микроскопе.
— Опыты свои еще не забросил?
— Ставлю на растениях. Перешел к растительному миру.
Он работал в городских теплицах разнорабочим. Был подручным при посадке и сборе рассады. Следил за освещением в теплицах, систематизировал генеалогические карточки, вел учет приобретенных и наследственных, переходящих от поколения к поколению характеристик опытных растений, помогая старому ученому-исследователю делать опыты по скрещиванию. Работа увлекала его. Горбатый читал массу специальной литературы, у него появлялись дерзкие идеи. Ученый называл его не иначе как «мой коллега» и был искренне огорчен отменой заочных отделений в сельскохозяйственных институтах…
— Ты отказался?
— Было какое-то разочарование, скажу положа руку на сердце. Боялся, как бы оно не захлестнуло меня.
— Послушай, мы отказываемся от всех «глупостей» детства, но, когда становимся взрослыми, без них-то как раз и делаемся глупцами.
У него на столе лежали брошюры и яркие цветные проспекты с текстами на наиболее распространенных языках.
— Что это? — спросил я его, чтобы сменить тему разговора.
— Проспекты экспортной продукции химического завода. Это так, в свободное время… Хорошо оплачивается.
Вечерело. Горбатый предложил поесть. Мы брали руками прямо со сковороды шарики мамалыги, пахнущие все тем же крахмалом. Запах разогретого прогорклого масла щекотал ноздри.
После ужина мы забрались на крышу сарая, который одновременно был и дровяным складом. Здесь хранились и мотки шерстяной пряжи, и посуда, и старая обувь, и даже кадка с квашеной капустой; здесь рядом с куриными насестами была и лаборатория. Толь еще сохранял дневное тепло, но Горбатый принес для меня плед, а для себя солдатскую шинель.