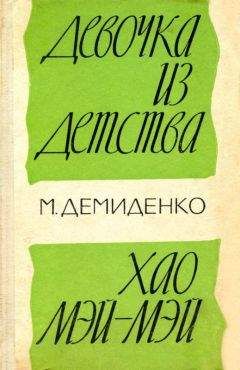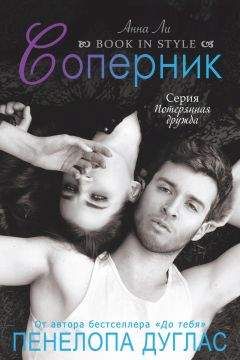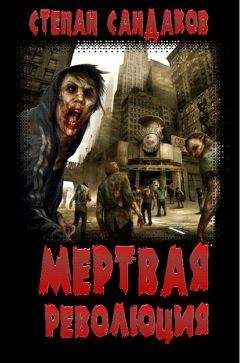Геннадий Воронин - На фронте затишье…
— Смыслову остаться со мной, — кричит он Юрке, напяливающему шинель.
Лезу на самоходку. В машине все на местах. Грибан, низко пригнувшись, боком выбирается из-за орудия, освобождает мне место у рации.
— Долго возитесь, — недовольно ворчит комбат. — Вызывайте скорее.
Включаю питание. Зеленый глаз индикатора начинает знакомо подмигивать. Он словно живой: то вдруг расширяется до предела, то сужается, превращаясь в точку.
— Солнце! Солнце! Я Луна-четыре!..
В нашей ГВШРС — Горьковской военшколе радиоспециалистов мне всегда везло на напарников, с которыми предстояло устанавливать связь. По радиосвязи у меня были сплошные пятерки. «Пусть же и здесь повезет…»
Передаю позывные. Умоляю «Солнце» откликнуться. Повторяю вызов еще и еще. Зеленый зрачок то замирает от удивления, то вспыхивает на полную яркость. «Наверное, и мои зрачки играют так же, как он: от нетерпения им впору позеленеть».
Снова, в который раз, переключаю рацию на прием и чуть не подпрыгиваю от радости на клеенчатом откидном сиденье. Приглушенная расстоянием певучая речь Павлика Журавлева, сдобренная характерным белорусским акцентом, звучит в наушниках бодрящей, радостной музыкой. Она мигом сгоняет с меня остатки сонливости…
— Луна-четыре! Я Солнце! Отвечай, как слышишь? Сейчас будет говорить первый… Как слышишь? Прием…
— Товарищ старший лейтенант! — кричу Грибану, не дослушав до конца штабного радиста. — У рации командир полка!
Как снег на голову сваливается через люк Кохов.
— Наконец-то! Ну, гробокопатели!.. — хрипит он, тяжело отдуваясь. Узнав, что будет говорить полковник, капитан выхватывает у меня микрофон:
— Первый! Первый!..
Нажимаю кнопку переключателя: Кохов забыл это сделать.
— Первый! Первый!..
Капитан возбужден до предела. Это заметно сразу.
— Докладываю обстановку… Противник атакует с юга и запада. Саперы могут не удержаться. Коробки применять невозможно. Прошу приказа отвести их в безопасное место… Повторяю. Прошу приказа переправить коробки в лучшее место.
С узенького, не тронутого морщинками лба капитана медленно сползает крупная капля пота. Весь он напрягся. На суставах пальцев, вцепившихся в микрофон, появляются белые узелки. Мучнистыми неровными пятнами покрываются щеки.
Из кружочков телефона до нас доносится только легкий треск. Но по выражению лица Кохова можно понять, что командир полка не согласен. Капитан ударяет по кнопке переключателя и снова кричит в микрофон:
— Первый! Первый!.. Нас атакует пехота противника. В темноте ничего не видно… Повторяю: коробки применять невозможно… Можно потерять все коробки. Можно потерять. Прошу приказа отвести их в безопасное место.
Я высовываюсь из раскрытого люка. Неподалеку от машины солдаты роют окоп. Размеренно, не спеша, орудуют они лопатами. Их словно и не касается, что с гребня высотки доносится беспорядочная стрельба.
Спускаюсь обратно. Кохов глядит в индикатор, сузив глаза. Он напряженно вслушивается в слова полковника и вдруг срывает с себя шлемофон и швыряет его под ноги.
— Сидят там… — он грубо ругается. — А нас тут перебьют, как котят! Пришел бы да командовал сам!
Начальник разведки полка лучше всех знает обстановку. И, глядя на капитана, я начинаю думать, что немцы могут атаковать нас и с тыла. Ведь от поворота оврага, за которым затаился бронетранспортер со спаренными пулеметами, до нас подать рукой.
Словно угадав мои мысли, Кохов бросает комбату:
— На этот пятачок немцы могут прийти из балки. Там нет даже часового.
…Рация опять на приеме. Сквозь хаос свистящих, шипящих, визжащих звуков снова прорывается голос Журавлева:
— Первый хочет говорить с Грибаном… Первый будет говорить с Грибаном…
— Товарищ старший лейтенант… Вас командир полка! — Я протягиваю микрофон комбату.
Нет, совсем-совсем не похожи они друг на друга — Кохов и Грибан. Кохов взвинчен. А Грибан говорит с полковником, словно ничего особого не случилось:
— Саперов вчетверо меньше, чем вы говорили… Пока вступать в бой нежелательно. Возле коробок спокойно…
Капитан глядит на него укоризненно, затем протягивает руку к кнопке переключателя. Но Грибан останавливает его решительным жестом. Выслушав командира полка, он громко кричит в микрофон:
— Вас понял. Вас понял. Удерживать! Понял!..
Комбат сам выключает рацию. В машине становится тихо. Только редкие автоматные очереди доносятся через распахнутый люк. Молча прислушиваемся к отзвукам боя. По ним нетрудно определить напряжение схватки, которая продолжается за гребнем высотки. Судя по хлопкам и очередям выстрелов, теперь стреляют только саперы. Похоже, что они уже отбили атаку и бьют на выбор по одиночным целям.
Кохов постепенно оттаивает, успокаивается. Но глаза его остаются злыми, кусачими.
— Почему ты не сказал, что шел бой? — спрашивает он, не глядя на Грибана.
Комбат устало машет рукой.
— Мы сами ничего толком не знаем. Какими силами атакуют немцы?.. Я не знаю. Ты тоже. Но если саперы не выдержат, вступим в бой.
— Зачем же спорить? — Кохов не унимается. — Нам здесь лучше видно, как поступать, а Демину многое непонятно. Но Грибан уже не слушает.
— Пойдем уточним обстановку, — говорит он Кохову.
Комбат берется за кромку люка, замирает, прислушивается:
— Кажется, стало тише… Саперы должны выдержать — там половина сибиряки.
Старший лейтенант подтягивается удивительно легко. Мелькают отшлифованные до блеска, наполовину сточившиеся подковки его каблуков, и в квадрате люка на какую-то секунду снова появляется кусочек звездного неба.
«Небо с овчинку», вспоминаю я излюбленное изречение Левина, стоящего рядом с невозмутимо-спокойным видом. Вот такое небо бывалому старшине, наверное, виделось сотни и тысячи раз. Это отсюда, из самоходки, кажется оно размером с овчинку. А может быть, эта поговорка и родилась среди танкистов и самоходчиков?..
Вслед за Грибаном в люк вылезает Кохов. Его блестящие хромовые сапоги-гармошки проплывают перед моим носом. От них отдает скипидарным сапожным кремом, острый запах которого перебивает испарения солярки.
— Дорохов, поддерживай постоянную связь! — бросает капитан сверху.
Мне неприятно, даже тягостно сидеть в машине. Наверное, это от непривычки. До сих пор мне еще никогда не доводилось оставаться в самоходке или тридцатьчетверке подолгу. Здесь, за броней, не то, что в лесу или в поле. Там можно куда-то пойти, можно вырыть окоп и укрыться, как тебе хочется. Там раздолье. А здесь надо только сидеть и ждать. Сидеть как в клетке в полном неведении.
Левин, видимо, понимает мое состояние. Он выглядывает через люк наружу, спускается на откидное сиденье и говорит покровительственным тоном:
— Ты не волнуйся. Здесь даже безопаснее, понимаешь? А завтра оглядимся — займем круговую оборону. Снарядов нам хватит. Ни одна сволочь близко не подойдет, понимаешь?
Я смотрю на выстроившиеся сбоку, отливающие холодной желтизной латунные гильзы, на пепельно-серую сталь снарядов. Одни из них с красными поперечными полосами. На других ободок синий. Бронебойные и осколочные… Своими хищными острыми клювами они смотрят вверх, в распахнутый люк, в квадрате которого светятся звезды, похожие на шляпки маленьких золотых гвоздиков.
И как это все нелепо: звезды, добродушная, спокойная улыбка Левина, а рядом с нами, всего в сотнях метров, опять разгорается перестрелка. Там, наверное, умирают люди. Если бы не приказ Кохова и олимпийская Сережкина сдержанность, я, не задумываясь, пулей выскочил бы из этого холодного бронированного гроба. На волю. «К звездам», как говорит Сережка.
Но приказ есть приказ. Приказы не обсуждают.
В окопах
В эту суматошную ночь так и не удается заснуть. То в машину, то из машины. То приказывает Кохов, то Грибан. А вот и Бубнов подает свою морскую команду «свистать всех наверх».
Вокруг потемнело. Словно кто-то подмешал дегтя к плотному помутневшему воздуху. Луна всего час назад была похожа на высвеченный изнутри туго надутый оранжевый шар. Но, уколовшись об острые верхушки деревьев, она сразу сникла, поблекла. Встревоженный холодным ветром, налетевшим со стороны Нерубайки, лес протестующе загудел, зашевелился. Через поле потянула поземка.
Идем со Смысловым ко второй самоходке, возле которой назначен сбор. Я не успел переобуться, перекрутить обмотки. Одна из них расползлась, съехала вниз и ветер задувает в ботинок крупинки снега. Стаскиваю ее на ходу, скручиваю как бинт — обратно наверну там, на месте…
Батарейцы окружили комбата и Бубнова. Закуривают. Ждут, какое приказание будет на этот раз.
В стороне над траншеями взлетает ракета. Оттуда опять доносится трескотня автоматов, в которую дробно вплетаются отрывистые пулеметные очереди. Немцы не дают саперам покоя, снова втягивают их в перестрелку.
![Николай Печерский - Важный разговор [Повести, рассказы]](/uploads/posts/books/210499/210499.jpg)