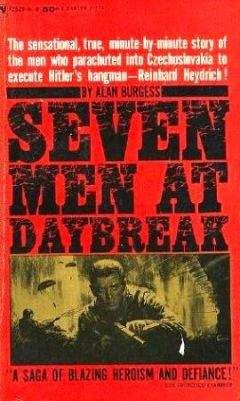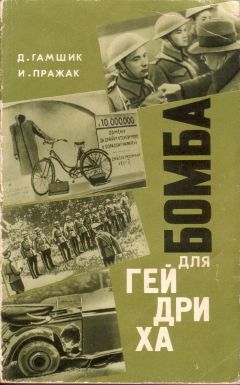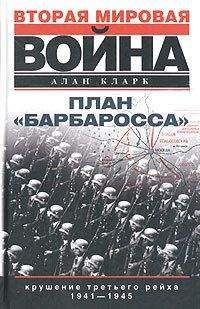Лоран Бине - HHhH
Зато роль Гейдриха у Сёрка исполняет великолепный актер. Для начала, он попросту похож внешне на «гитлеровского безумца», но кроме того, артисту удалось воссоздать жестокость своего персонажа, не слишком преувеличивая его мании и причуды, тогда как Ланг легко шел на подобные преувеличения, мотивируя эти преувеличения существующей якобы необходимостью подчеркнуть вырождение души этого человека. Гейдрих между тем был, безусловно, злобной и безжалостной свиньей, но никак не Ричардом III. Актера, о котором идет речь, звали Джон Кэррадайн, он отец Дэвида Кэррадайна, исполнителя роли Билла у Тарантино[13]. Лучше всего получилась сцена агонии. Умирающий, прикованный к постели, истерзанный лихорадкой Гейдрих произносит, обращаясь к Гиммлеру, весьма циничную речь, в которой, конечно, можно при желании расслышать шекспировские интонации, но которая, как мне кажется, при этом вполне правдоподобна. Не будучи ни трусом, ни героем, Пражский палач умирает без раскаяния, но и без фанатизма, сожалея только об одном: он расстается с жизнью, к которой привязан, с собственной жизнью.
Я сказал — «правдоподобна».
11Идут месяцы, они складываются в годы, а эта история все прорастает и прорастает во мне. Жизнь моя течет как и у всех, она состоит из радостей и драм, надежд и разочарований, а тем временем полки в квартире заполняются книгами по истории Второй мировой войны. Я с жадностью проглатываю все, что попадает в руки, читаю на любом мало-мальски доступном мне языке, я смотрю в кино все фильмы «по теме», какие только выходят, — «Пианист», «Бункер», «Фальшивомонетчики», «Черная книга»[14] и так далее, — а телевизор и вовсе не переключаю с кабельного канала «История». Я узнаю кучу разных вещей, некоторые, ясное дело, имеют весьма отдаленное отношение к Гейдриху, но тогда я говорю себе: все может пригодиться, надо с головой окунуться в эпоху, чтобы понять ее дух, ну и потом, стоит потянуть за ниточку, клубок Истории начнет разматываться сам по себе. В результате спустя какое-то время объем моих знаний в этой области начинает пугать меня самого. Для того чтобы написать две страницы, я прочитываю тысячу, и, работая в подобном темпе, я так и умру, не дойдя даже до приготовлений к убийству Гейдриха. Чувствую, что нормальное, здоровое в своей основе стремление собрать и изучить всю документацию по интересующей меня проблеме несет в себе погибель: продолжая и продолжая поиск документов, я только оттягиваю момент, когда придется сесть за книгу вплотную.
Ко всему еще, мне стало казаться, что любая мелочь в моей повседневной жизни имеет отношение к этой истории. Снимает Наташа студию на Монмартре — код домофона «4206» сразу же напоминает мне об июне сорок второго. Объявляет она мне о свадьбе своей сестры, а я весело восклицаю в ответ: «27 мая? Невероятно! Это же день покушения!» (Наташа, естественно, потрясена.) Возвращаемся мы прошлым летом из Будапешта через Мюнхен, вижу на главной площади старого города сборище неонацистов — ну прямо невероятное сходство с теми, что известны с давних времен! — а жители города стыдливо говорят, что раньше на их памяти такого не бывало (ох, не знаю, можно им верить или нет). Смотрю первый раз в жизни фильм Эрика Ромера на DVD[15] — а там главный герой, тройной агент 30-х годов, рассказывает о своей встрече с Гейдрихом. У Ромера! Вот уж действительно: стоит внедриться в какую-то тему, начинает казаться, что всё вокруг тебя к ней приводит.
Еще я читаю один за другим исторические романы — чтобы понять, как другие справляются с непременными правилами жанра. Некоторые вроде бы строго следуют за исторической правдой, другие слегка на нее поплевывают, третьи ухитряются ловко обойти воздвигаемые ею стены, при этом не особенно привирая. Но тем не менее во всех случаях выдумка преобладает над Историей — поразительно! В этом есть логика, но мне самому трудно решиться на такое.
На мой взгляд, успешнее всех справился с задачей Владимир Познер[16], который рассказал в романе «Кровавый барон» о бароне Унгерне (это с ним встречается Корто Мальтезе на страницах комикса «Корто Мальтезе в Сибири»)[17]. Книга Познера делится на две части. Действие первой разворачивается в Париже, и писатель еще только собирает материал о своем персонаже, а во второй автор лихо переправляет читателя в самое сердце Монголии, где и начинается собственно роман. Прием удался, все это захватывает, и я время от времени перечитываю место перехода. Если быть совершенно точным, переход там не резкий, одна часть отделена от другой маленькой главкой под названием «Три страницы Истории», и главка эта заканчивается фразой: «Только что начался 1920 год».
Мне такое решение кажется гениальным.
12К тому времени, когда возвращаются родители, Мария, наверное, уже не меньше часа сидит за пианино, пытаясь справиться с заданной ей пьеской, но выходит пока не слишком-то хорошо. Отец, Бруно, распахивает дверь, чтобы его жене Элизабет, которая держит на руках младенца, было удобнее пройти в квартиру. Они зовут девочку: «Иди-ка сюда, Мария, глянь! Ну посмотри, посмотри, это твой братик. Он совсем крошечный, и с ним надо обращаться очень нежно. Его зовут Рейнхардт»[18]. Мария неопределенно кивает. Бруно осторожно склоняется над новорожденным. «Какой хорошенький мальчик!» — говорит он. «И какой беленький! — подхватывает мать. — Он станет музыкантом».
13Конечно, я мог бы (а может, и должен был), по примеру, скажем, Виктора Гюго, предложить читателю в качестве вступления длинное, страниц на десять, знакомство со славным городом Галле, где в 1904 году родился Гейдрих. Я перечислил бы его улицы, памятники, магазины, описал бы все достопримечательности, оценил бы местную кухню, рассказал бы, как там велось хозяйство, познакомил с его жителями, с их манерами, умонастроениями, политическими взглядами и вкусами, остановился бы на том, как они проводят свободное время… Потом перевел бы объектив на дом Гейдриха и увеличил крупность — не забыл бы упомянуть ни о цвете ставен, ни об оттенках занавесей, ни о расположении комнат, ни о породе дерева, из которого сделан стол посреди гостиной. За этим последовало бы подробное описание пианино, сопровождающееся рассуждениями о немецкой музыке начала ХХ века, о ее месте в обществе, о композиторах и о том, как воспринимались их творения, о значимости Вагнера… И только тут, когда все эти сведения исчерпались, начался бы мой настоящий рассказ. Припоминаю бесконечно длинный, страниц самое меньшее на восемьдесят, экскурс с изложением методов работы средневековых судебных учреждений в начале романа «Собор Парижской Богоматери». Я нашел этот экскурс весьма основательным, но читать его не стал.
А что, если несколько стилизовать свою историю, подумал я, и это была удачная мысль. Наверняка, когда дело дойдет до некоторых более поздних эпизодов, возникнет искушение выложить все мне известное, излишне углубиться в детали той или иной сцены, для которой собрано документов явно больше нужного, и, видимо, нелегко будет сопротивляться соблазну, но в данном случае, не стану скрывать, представления о родном городе Гейдриха у меня довольно смутные. В Германии два города под названием Галле, и я даже не знаю, о каком сейчас идет речь. «Ну значит, пока это не так уж важно, — решаю я. — А дальше посмотрим».
14Учитель, делая перекличку, доходит до него: «Рейнхардт Гейдрих!» Рейнхардт встает, а один из его одноклассников сразу же тянет руку: «Господин учитель! Почему вы не называете его настоящей фамилии? (Класс в восторге.) Он ведь Зюсс, кто же этого не знает!» Взрыв смеха, школьники орут и визжат. А Рейнхардт сжимает кулаки. Молча. Он всегда молчит. Он лучший ученик в классе. И прямо на следующем уроке, на физкультуре, он покажет самые высокие результаты. И он не еврей. По крайней мере, он надеется, что не еврей. Правда, второй муж бабушки, кажется, еврей, но его семья тут ни при чем. Он пришел к такому выводу, сопоставляя ходившие по городу слухи и яростные отрицания отца, хотя, правду сказать, сам он не очень-то в этом уверен. Так что пока он всем заткнет рты своими спортивными успехами. И сегодня вечером, когда вернется домой, сможет перед очередным уроком игры на скрипке сказать отцу, что он опять первый, и отец будет им гордиться и его похвалит.
Однако в тот вечер урок музыки не состоится и Рейнхардт не успеет рассказать отцу о своих достижениях. Вернувшись домой, он узнает, что началась война.
— Почему началась война, папа?
— Потому что Франция и Англия завидуют Германии, сынок.
— А почему они завидуют?
— Потому что мы, немцы, сильнее их.
15Нет в историческом повествовании ничего более искусственного, чем такие вот диалоги, восстановленные по свидетельствам из более или менее первых уст ради того, чтобы вдохнуть жизнь в мертвые страницы прошлого. В стилистике этот прием относят к особой фигуре, которая называется гипотипозой и цель которой — создать у читателя ощущение, будто он видит предмет или явление своими глазами. Когда речь идет о воссоздании разговоров, диалог на бумаге чаще всего получается неестественным, а эффект — обратным желаемому: автор пытается говорить голосами персонажей, исторических лиц, но слышен при этом лишь его собственный голос, и я отлично понимаю, что все тут шито белыми нитками.