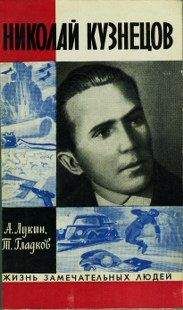Иван Черных - Штопор
— Где бы ты желал служить? — спросил он у него.
— На юге, разумеется, — не задумываясь ответил Эдик и добавил: — У Черного моря.
Военком понимающе кивнул:
— На юге — можно. У Черного моря, правда, не обещаю, но что вода будет соленой, можешь не сомневаться…
Так Эдик попал под южное солнце Таджикистана, а потом Афганистана…
Военком, разумеется, поступил правильно и разумно. Но хватит ли у изнеженного, избалованного оболтуса характера и силы воли, чтобы преодолеть армейские трудности? Первые месяцы службы показали, что Эдик не тот поддающийся материал, из которого можно лепить настоящего человека, стойкого солдата. Он хитрил, ловчил, придумывал всякие поводы, только чтобы увильнуть от работы на аэродроме или даже на кухне. Но старшина эскадрильи, начальник техническо-эксплуатационной части, люди сильные и жесткие, умело держали его в руках, пресекали всякие попытки симуляции. И вот вчерашняя истерика, сегодняшнее помешательство. Симуляция это или реальный срыв психики?
Положеньице!..
Николай обдумывал создавшуюся ситуацию, внимательно вглядываясь в лицо солдата. А может, он пьян или накурился анаши? Здесь, говорят, такое бывало.
— Садитесь, — пододвинул к себе поближе стул Николай, чтобы уловить запах.
Разумовский сел, зябко передернул плечами, дохнул майору в самое лицо:
— Знобит, трясет…
Запаха никакого не было. Может, укол?..
— Аж зубы ломит. — Разумовский клацнул зубами и приблизился почти вплотную к майору. Догадался, о чем подумал командир? Николаю в какой-то миг показалось, что Разумовский осмысленно и настороженно стрельнул в него глазами.
— Мне тоже что-то нездоровится, — сказал он и тоже передернул плечами. — А летать надо, афганский народ от внешних и внутренних бандитов защищать. Не хочешь помочь экипажу?
И снова, как отблеск ночной зарницы, настороженный, испытывающий взгляд.
— Хочу, — болезненным голосом протянул Разумовский. — Только согреться бы. Может, костер разведем? У вас спички есть?
Николай не курил и спичек с собой никогда не носил. А как они нужны были сейчас!
— Спички найдем.
Он стал шарить у себя по карманам. И снова то ли показалось, то ли на самом деле в глубине глаз солдата мелькнуло вполне осмысленное любопытство. Полазив по карманам, Николай открыл письменный стол, один ящик, другой, и, к великой радости, увидел потертую коробку. В ней было с десяток спичек.
Николай протянул коробок Разумовскому:
— Вот, берите.
Солдат взял недоверчиво, потом вдруг заулыбался, вскочил с кресла и пустился в пляс, припевая:
— Вот теперь согреемся, вот теперь согреемся. — Подскочил к другому столу, где лежала подшивка газет, отмахнул с ходу несколько штук; продолжая плясать, сминал их. Лицо его то улыбалось, то перекашивалось в какой-то бессмысленной гримасе, губы оттопыривались, и из уголков скатывалась пена слюны.
Разумовский действительно был похож на человека, лишившегося рассудка, и в груди Николая шевельнулась жалость: талантливый парень, мог стать известным музыкантом, а то и композитором… И что они, отцы-командиры, скажут теперь его родителям, как объяснят случившееся?
Разумовский бросил смятые газеты посередине кабинета, осмотрел его: видимо, показалось мало, оторвал еще несколько штук от подшивки, удовлетворенно кивнул.
— А дров где возьмем? — спросил у майора, лишь искоса глянув на него.
— А вот кресла, — вырвалось у Николая, а по спине пробежал холодок: что, если начнет ломать?
— Правильно, — одобрил Разумовский и присел на корточки у брошенных газет — точь-в-точь, как у костра. Открыл коробок.
Николай тоже встал, подошел к двери, вставил в скважину ключ, щелкнул замком. Ключ положил себе в карман.
— А зачем это? — полюбопытствовал Разумовский.
— Чтоб тепло не выходило, — ответил Николай с иронией, не сводя глаз с солдата. И кивнул на окна. — Тут-то не уйдет — окна двойные, зарешеченные.
Разумовский опустил глаза, чиркнул по коробку спичкой. Сломал. Стал доставать другую. Руки у него дрожали.
— А может, лучше на улице? — Голос осип, сорвался от волнения.
— Нет, товарищ Разумовский, на улицу просто так мы теперь с вами не выйдем, — как Николай ни сдерживался, слова вылетали отрывисто, угрожающе. — Отсюда один путь — либо в честные солдаты, либо…
— Только бить меня не надо, — захныкал Разумовский, — а то я кричать начну. — Он сунул спички в карман.
И Николай понял: шантаж с пожаром не удался, теперь Разумовский грозится и командира обвинить в рукоприкладстве.
— Позвать кого-нибудь в свидетели? — спокойно и холодно сказал Николай. Разумовский насупился. — Тебе сколько служить осталось?
— Не знаю. — Но голос дрогнул, сорвался.
— А я знаю. Чуть более года. Я прослужил двенадцать. И поверь мне, мои годы пробежали быстрее, чем твои месяцы. Потому что я не ловчил. У меня были друзья, а с друзьями всегда легче. Скажи, чего ты хочешь?
— Не надо меня бить, — снова заблажил Разумовский.
— Ты трус, Эдуард, — пропустил Николай угрозу мимо ушей. — Боишься трудностей, боишься, что душманы подстрелят тебя здесь, на аэродроме. Кстати, я тоже не хочу умирать и боюсь смерти. Но есть вещи, товарищ Разумовский, которые страшнее смерти, — это позор. Подумай, как ты будешь смотреть родным, близким в глаза, если вернешься домой не из Афганистана и не воином-интернационалистом, а гражданином, отбывшим заключение за уклонение от воинской службы. Устраивает тебя такая перспектива? — Разумовский опустил голову. — Ты даже не знаешь, что глаза твои честнее, чем мысли. Вот выбирай: или ты даешь мне слово, что будешь служить честно, или я сейчас вызываю медицинскую экспертизу, пусть тебя обследуют и дадут заключение. Военный трибунал с такими вещами не шутит… Что же ты молчишь? — Николай подождал еще немного. Разумовский не поднимал глаз. — Значит, не договорились. — Николай снял трубку телефона.
— Не надо! — схватил его за руку Разумовский.
7Абдулахаб скрипел зубами, бил кулаком в каменную стену: сколько его будут еще держать за решеткой, сколько раз водить на допрос, когда все, что они хотели знать, он выложил? И где его напарник Мурмамад, что сказал на допросе? Правда, многое он сказать и не мог, потому что знает мало — в отряде вторую неделю, — но самое главное, что Абдулахаб является казначеем отряда, знает. А если выдаст, прощай золото, и что на том берегу, и что там, припрятанное недалеко от кишлака Мармуль. Но, похоже, Мурмамад молчит. Парень он стоящий — и при появлении вертолетов не спаниковал, и на предварительном допросе, когда их еще не разлучили, твердил одно: они дехкане из кишлака Шаршариф, перебрались через речку, чтобы запастись на зиму фисташками.
Теперь их на допрос водят по одному, заставляют повторять одно и то же по нескольку раз — ищут неточности, зацепку, чтобы раскрутить запутанный ими клубок и докопаться до истины. Если Мурмамад выдержит, самое худшее, что можно ожидать, двух-трехгодичное отбывание в исправительно-трудовых лагерях, но Абдулахаб надеялся на лучшее: советские контрразведчики захотят использовать их в своих целях и, взяв определенные обязательства, отправят на ту сторону Кончи. Предложение он, разумеется, примет, только отпустили бы, а когда окажется на свободе, заберет Земфиру — и ищи ветра в поле, как говорят русские, а точнее, в горах. Абдулахаб снова станет Абдулахабом, а не Заидом, коим назвался контрразведчикам, присвоив себе имя убитого: у Заида не такая известная биография, он в отряде недавно, месяца три, и не представляет для Советов такого интереса, как бывший студент Ташкентского государственного университета имени В. И. Ленина, посланец Демократической Республики Афганистан, затем начальник снабжения геологоразведочной партии в Файзабаде, а позже — казначей банд Башира и Масуда.
Но дни шли за днями, допросы за допросами, а никто ему ничего не предлагал, даже намеков на сотрудничество не делал. Его мучили неизвестность, неопределенность положения и все больше беспокоила судьба Земфиры. Как она там? Выдержит ли выпавшие на долю испытания? Первый год жизни в Афганистане она перенесла довольно тяжело; в Ташкенте у нее была хотя и небольшая однокомнатная квартира — жили они вдвоем с матерью, — но с удобствами, с газом и горячей водой. В Файзабаде же, куда привез ее Абдулахаб, пришлось привыкать к земляному полу, к керосинке и костру, к невкусной, с привкусом горечи, воде, которую она могла пить только кипяченой. А потом, когда Башир увел Абдулахаба в банду и Земфира более месяца жила в страшных ожиданиях и лишениях, она пошла за мужем дорогами испытаний, еще больших страданий, скитаний и бесконечных боев. И только любовь ее к Абдулахабу помогла переносить зной и холод, трудные длинные переходы, насмешливые, а то и недобрые взгляды единоверцев мужа. Правда, никто в отряде Башира не смел и словом оскорбить ее — боялись Абдулахаба, самого сильного и ловкого в отряде воина, пользующегося покровительством главаря. И Башир относился к Земфире с почтением, иногда долго не отрывал от ее стройного стана вожделенных глаз. Абдулахаб опасался, что однажды предводитель не выдержит искушения и, отправив Абдулахаба на задание, прикажет Земфире явиться в его палатку. Но Башир, имевший в десятке кишлаков жен и любивший женщин, оставлял Земфиру в покое, то ли дорожа прежней дружбой с Абдулахабом, то ли боясь его мести. А возможно, выжидал более подходящего момента. И Абдулахаб не знал, чем все это кончится, пока отряд Башира не попал в засаду.