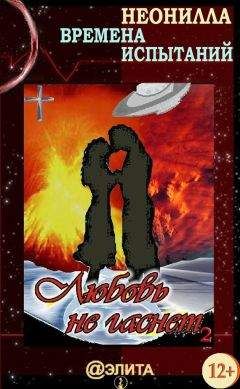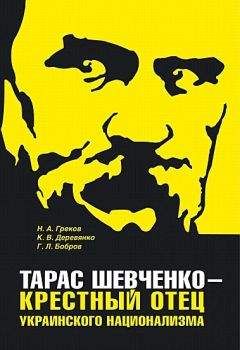Тарас Степанчук - Наташа и Марсель
Едва туман рассеялся, в стылом небе появились «юнкерсы». Черные разрывы вскинулись по нашей обороне и воздух наполнился вяжущим запахом взрывчатки. Потом на нас двинулись танки, сопровождаемые густыми цепями автоматчиков.
Танки лезли напролом. Несколько их уже горело или дымилось, но некоторые все же добрались до наших окопов. Мы встретили их гранатами и бутылками с зажигательной смесью. События понеслись вскачь: атаки, стоны раненых, хриплые команды и снова атаки…
До ночи полосу нашей обороны рвали фашистские снаряды, мины, бомбы, кромсали танковые гусеницы, прошивали очереди простых и трассирующих пуль, топтали кованые, на металлических шипах, сапоги. Мы держали оборону, пока были человеческие возможности и сверх этих возможностей. Вспоминать это с деталями и подробностями тяжело.
Сегодня на местах, овеянных славой сражений, стоят памятники и монументы, в городах горит Вечный огонь. А я бы ставил памятники и зажигал Вечный огонь и там, где наши люди умирали в безвестности, в окружении, в отступлении, где они героически погибали под напором превосходящих сил противника. Ведь победа складывается не только из подвигов в наступлении, но из стойкости каждого в отступлении, в беде!
На второй день боев мой взвод потерял почти всех бойцов и последний «максим». Я принял остатки нашего батальона. Став капитаном, Петр Игнатович Борисенко принял полк.
В сумерках третьего дня на лесной опушке собрались немногие уцелевшие бойцы и командиры нашего полка. Капитан Борисенко оглядел нас и с болью в голосе проговорил:
— Убитые похоронены. Тяжелораненых пришлось оставить местным жителям. По дорогам движутся войска противника, всем вместе нам через его боевые порядки не прорваться. Приказываю разбиться на мелкие группы и самостоятельно идти к линии фронта, на восток.
Петр Игнатович сделал паузу и заключил:
— Благодарю за службу Родине, дорогие товарищи!
Осенью сорок первого Шадрина и все, что с ней связано, стала для меня, моих однополчан главной жизненной высотой. И хотя наша дивизия была разбита, но битву мы не проиграли: мы выиграли время, обескровили врага и этим помогли защитникам Москвы.
Согласно приказу народного комиссара обороны СССР наша дивизия и все ее воины считаются входящими в состав действующей армии по 27 декабря 1941 года. Потом 298-ю стрелковую дивизию полного состава сформировали заново, и она начала боевой путь весной сорок второго, а через одиннадцать месяцев стала гвардейской.
Пролитая нами кровь в боях под Шадрицей осталась в гвардейском знамени дивизии, которая с честью пронесла его по полям сражений до победного мая сорок пятого года.
Глава шестая
Наташа едет в Париж
«Париж мой трепетный, далекая звезда. Надежда неугаснувшая наша…» Так писал в сорок втором Поль Элюар.
В сорок втором Париж был для нее далеким, как звезда, а Марсель — никем.
Куда и к кому она сегодня уезжает из Хойников, со своей Гомельщины? В Париж. К Марселю.
Зачем едет?
Этого она во всей полноте сказать не могла даже себе. «В гости, по вызову. На месяц». Да разве ж ездят на месяц в чужую незнакомую страну, к чужому человеку? Но ведь Марсель для нее не чужой. Он…
Кто же для нее он, парижский инженер-строитель Марсель Сози, известный зодчий и архитектор? Белорусский партизан. Она едет к товарищу по совместной борьбе.
А может, она уезжает к своей судьбе, и Париж будет для нее таким же своим, каким все настойчивее становится Марсель?
Зачем все-таки едет она в Париж?
«Добро пожаловать!» — так по традиции встречают белорусы гостей, преподнося им хлеб-соль. В этой традиции отражена душа народа — трудолюбивого, щедрого, искреннего с теми, кто приходит на его землю гостем. По-белорусски приглашение звучит особенно ласково: «Сардэчна запрашаем!»
А как будут «запрашать» ее там, в Париже? И куда она едет из сегодня — в прошлое или в свое будущее?
Пройдет три дня, запослезавтра она увидит Париж. Будет ли он таким, как представляла его по книгам, фильмам, описаниям Марселя?
Каким Парижем окажется для нее Париж? Ведь каждый город видится не только таким, каков он предстает нашему взгляду. Во многом восприятие при знакомстве с городом зависит от того, как встретили в этом городе и как мы к тем, кто нас принял, отнеслись.
Завтра она будет в Москве, запослезавтра ступит на перрон Гар-дю-Нор — Северного вокзала Парижа, а сегодняшнее сентябрьское утро встречает у себя дома, в Хойниках.
Александра Михайловна проснулась перед рассветом. Так уж повелось, она всегда просыпается перед рассветом и лежит, не открывая глаз, — привычка. В доме тихо, из открытой форточки слышен в саду шелест листвы. Медленно тают в комнате синие иглы сумерек, все яснее проступает зеркальный квадрат окна.
На стене размеренно отбивают время старинные ходики, и вот уже нет в комнате сумерек, и брызнул, полился в окно золотисто-красный луч взошедшего солнца. Оно еще не жаркое, не растопило стылость сентябрьского утра, еще не разбудило молодых: да разве ж их добудишься солнечным лучом?
Зять уехал в командировку, в соседний Чернобыльский район, дочь и внучка безмятежно спят — сон у молодых крепкий, веселый, как они сами, потому что они живут в том счастливом возрасте, в том душевном настрое, когда в их сознании не уходит ночь, но приходит утро, за которым последуют радости нового дня.
«У женщины до самой смерти сердце молодое…»
Эти слова ей сказала вчера дочь, Лена, и они не растаяли, не ушли, так и остались в комнате. Александра Михайловна старалась восстановить интонацию, которой заканчивалась фраза, и думала, что же в ней было: осуждение, стремление ободрить перед дальней дорогой, ревность к памяти отца?
Как-то во время обеда зять, заместитель директора крупного завода, шутливо, но со значением сказал:
— Каждый человек — это прежде всего характер. И терпение…
— Совесть, — подсказала Александра Михайловна.
— Доброта и справедливость, — добавила Ирочка.
— И что еще? — поинтересовалась дочь.
— Гордая уверенность в своей правоте, — усмехнулся Миша. — Вы только представьте, какое терпение надобно иметь мужчине, чтобы в одиночку сосуществовать сразу с тремя такими женскими характерами!
— Ты недоволен? — прищурилась Лена.
— Я говорю о характерах, — ответил зять.
В семьях Борисенко и Курсевичей твердые характеры, за малым исключением, имели все. Наверное, по семейным традициям характер у шестиклассницы Ирочки был крепкий, но в то же время беззащитно-податливый на ласку и отзывчивый к чужой беде. С внучкой Александра Михайловна ладила естественно и просто, как дышала. С зятем Мишей они, как говорится, сразу сошлись характерами, понимая друг друга и без слов.
Намного сложнее складывались отношения с Леной, причинами чему были непредсказуемые смены настроения дочери, присущая ей категоричность, придирчивая требовательность к другим и несколько завышенная вера в непогрешимость своих поступков.
Легко ли, как шутил Миша, сосуществовать с таким характером? Кому как. Все дело в том, что главные черты характера у Лены — бескомпромиссная честность, требовательность к себе и отзывчивая доброта — отзывчивая до самоотречения перед любым, кто был достоин уважения и тем более нуждался в доброте.
А что касается веры в непогрешимость себя и других, то кому из нас не приходилось надевать маску непоколебимой уверенности, тогда как в глубине души нам ведомы сомнения и печали…
Накануне отъезда Александра Михайловна особенно нуждалась в поддержке дочери, а Лена посмотрела на мать черными глазищами Петра, и что-то непонятное затеплилось в ее взгляде, когда она сказала:
— У женщины до самой смерти сердце молодое.
Александра Михайловна растерялась и виновато спросила:
— Может, лучше бы мне и не ехать? Если ты…
— Ехать! — решительно перебила дочь и опять загадочно усмехнулась. — Посмотрись в зеркало: ты прекрасна! Разве можно тебе дать твои годы? Возраст женщины определяется не по паспорту, а по душе, по тому, как она выглядит. Как чувствует! Я горжусь тобой, мамочка, хотя сейчас ты свою дочку нис-ко-леч-ко не понимаешь. Ну ладно, потерпи, перед отходом поезда я все тебе объясню.
Что она объяснит?
«Мэншлихе ист иррен — человечеству свойственно ошибаться». Эту немецкую пословицу Александра Михайловна знала с детских лет. Ошибалась ли она? Конечно. И порою больше, чем того бы хотелось. Но против совести за свою прожитую жизнь не шла ни разу, уважение к себе никогда не теряла и повода относиться к себе неуважительно не давала никому.
Слова же дочери таили в себе какой-то скрытый смысл, и Александра Михайловна забеспокоилась вопросом: не дала ли все же повод, пускай в самой малости, засомневаться в безоговорочности ее авторитета, в справедливости, правоте хотя бы какого-либо одного поступка?