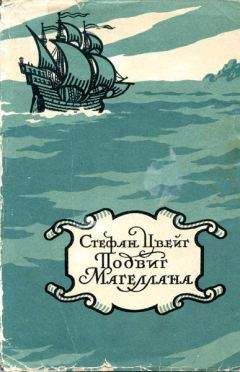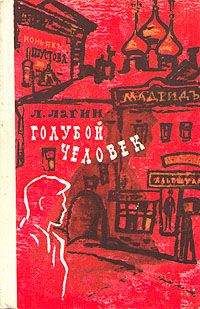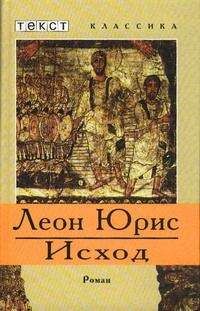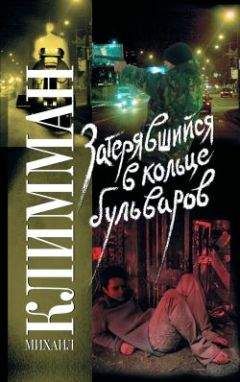Ганад Чарказян - Горький запах полыни
— Я понял, что в тебе нет гнева и ненависти к нашим врагам. Это потому, Цыштын-дабара, — не удивляйся, тебя знают многие, — что собственное горе еще переполняет тебя и отделяет от нашей общей беды. Но первый шаг на праведном пути ты уже совершил — в тебе нет и тени страха. Ты, как и я, ничего не боишься. Покажу тебе тропу к ближайшему кишлаку — это на день пути, после риса и тушенки ты осилишь его. Но, прошу, будь осторожнее с незнакомыми людьми. Не вводи их в соблазн греха. Даже я подумал вчера, когда оказались в моем убежище, что ты не должен его покинуть. Какое-то время я стоял над тобой спящим, но не смог поднять руку, чтобы лишить тебя жизни. Есть в тебе что-то, что размягчает сердца незнакомых людей. Да пребудет Аллах с тобой!
Потом истребитель самолетов начертил мне на песке всю предстоящую дорогу, выделив развилки, источники хорошей воды, и даже, на всякий случай, место для ночевки, которым пользуется и сам. Он прошел немного со мной — до первого поворота и обнял на прощанье. Я тоже ответил ему объятьем — человеку, который еще ночью собирался меня задушить в своем погребе. Как изменчива и прихотлива жизнь, какое колеблющееся существо — человек. И об этом знал уже Мухаммед — «человек рожден колеблющимся».
Уже один ступил я на дорогу к будущему. Сумрачные ущелья, синие, красные, бурые скалы. Голубые звонкие речки, тенистые заросли — тропка бежала и бежала, и я торопился за ней, отдыхая в прохладных пещерах, утоляя жажду из ледниковых ручьев. Как и было обещано, кишлак появился незадолго до захода солнца. Но света хватило, чтобы разглядеть меня и проникнуться доверием. Как раз одному человеку нужен был помощник в тяжелой и знакомой мне работе — строительстве небольшого поля. Муса обязался кормить и дать запас провизии на дорогу. Для начала он угостил хорошим ужином: рис, сушеные персики, изюм, зеленый чай. Хозяин был само радушие, а жена, на которую он недовольно поглядывал, обслуживала нас быстро и бесшумно.
На следующий день принялись за работу. Убедившись, что я понимаю в ней толк, Муса спокойно отлучался и только приходил вечером, чтобы увидеть итог моих усилий. Спал я на плоской крыше, снова под звездным небом, невольно напоминавшем все, что довелось испытать за эти годы под его внимательным взглядом. Первоначальное радушие хозяина понемногу испарялось. С самого утра слышал, как он кричал на жену, которая приносила мне на крышу все более скромный завтрак. Мясом не накормили ни разу. В тот день, когда я собирался закончить работу, получить расчет и двинуться дальше, его жена, с ног до головы закутанная в национальную одежду, поднявшись ко мне с блюдом риса, сказала еле слышно:
— Брат незнакомец… уходи, скорее уходи. Он убьет тебя и опозорит меня перед моими братьями, чтобы избавиться от меня. У нас нет детей. Наверно, это моя вина. Но предыдущая жена была тоже бездетна. Уходи, уходи, незнакомец…
Янтарные глаза ее грустно и с тревогой смотрели сквозь чадру. Оказывается, моя смерть должна помочь хозяину избавиться от жены, уличенной в прелюбодеянии. Несчастная женщина осталась в моей памяти как тихий голос без лица — печальный и нежный.
Я хорошо позавтракал — впрок, не стесняясь, попросил добавки. Потом спустился к хозяину и сказал, что работы осталось совсем немного, на час-другой. Дорогу к следующему кишлаку знаю, так что возвращаться с поля особой нужды нет. Думаю, что могли бы рассчитаться прямо сейчас. Я благодарен и вам, дорогой Муса, и вашей заботливой ханум, что приютили бедного путника и дали ему немного заработать. Взял бы я с собой пяток лепешек, сушеных персиков, урюк, изюм, немного овечьего сыра.
Хозяин мрачновато оглядел меня. Сказал, что хотел вечером угостить настоящим пловом, шаропом, отметить конец работы. Но, если так тороплюсь, то — что ж — собери ему, жена, чего он просит. Пока ханум собирала мешочек, мы выпили с хозяином чайник зеленого чая. Он опять стал обходительным восточным человеком, витиевато благодарил меня. Приглашал на следующий год заглянуть снова. Я даже засомневался: неужели он на самом деле способен убить невиновного человека? Видно, заповеди пророка не коснулись его дикой души. А о кодексе чести пуштунов он и слыхом не слыхивал.
Договорились, что он скоро подойдет к полю и примет работу. Но, не пройдя и сотни метров, услышал за собой торопливые шаги и визгливый голос Мусы. Он орал на весь небольшой кишлак, что я похитил честь его жены. Я ускорил шаги. Хорошо, что все мужчины были в поле и не бросились сразу к нему на помощь. Я оглянулся: размахивая топором, Муса катился за мной на маленьких ножках, как колобок. За ним, периодически вскрикивая, бесплотной голубой тенью семенила жена. Только этого отелло мне и не хватало. Я решительно свернул на тропу, ведущую в горы, но Муса припустил со всех ног и стал нагонять. Уже различимо его озлобленное лицо. Нет, это совсем не тот медоточивый восточный человек, что встретил меня неделю назад. Его почти физически ощутимая ненависть настигала. Я стал для него виноват во всех грехах. И в самом главном — в бесплодии жены. Что полностью лишало его жизнь смысла. Единственный способ вернуть этот смысл — прикончить меня и отправить жену назад к братьям, оставив у себя ее махр. Так как измена налицо.
Только бы не подпустить его очень близко — чтобы не мог воспользоваться топором на длинной ручке. Это было бы совсем глупо: столько всего пережить, чтобы погибнуть на безымянной тропе от руки хитроумного ревнивца. Но все же мое искусство всегда со мной, а камней вокруг хватает. Нас разделяло шагов двадцать. Узкое лезвие топора поблескивало на солнце. Я быстро наклонился, схватил небольшой камень и тут же метнул в преследователя. Целился в плечо той руки, в которой был топор. Слава Аллаху, не промахнулся! Муса взвыл от боли и выронил топор. Но по инерции продолжал бежать за мной. Пришлось наклониться еще раз и попасть ему по коленке. Тут он уже приземлился и стал звать на помощь свою ханум. Отставшая жена заторопилась на помощь к лежащему и стенающему мужу. То ли довольная, то ли испуганная — не разобрать. Перед тем как наклониться к мужу, обернулась ко мне и махнула рукой: иди, мол, человек, иди, незнакомец.
Я шел долго. Даже не останавливался, чтобы переждать полуденный зной, — все-таки опасался, что на помощь Мусе прибегут соседи. Но этого не случилось — видно, соседи тоже знали, что он за человек. Нестерпимо слепящее солнце висело в выцветшем небе. Я молил Аллаха, чтобы оно поскорее закатилось. Изнемогая от быстрой ходьбы на открытом пространстве, мечтал только о глотке воды из студеного ручья. Но знал, что пить пока нельзя: сразу одолеет слабость и движение придется прекратить. Только бы дождаться темноты — моего сегодняшнего союзника. Но вот, наконец, первые звезды на небе, спасительный сумрак и близкий лай собак, извещающий, что недалеко человеческое жилье, и по всей видимости, ночь проведу под крышей. Или, точнее, на крыше.
Подходя к кишлаку, что прилепился к основанию горы, думал о том, что на земле постоянно живут рядом и здравствуют добро и зло. Они сменяют друг друга, как день и ночь. Как зной и ночная прохлада. Так же и человек — одушевленное дитя природы — навсегда впитал ее противоречивость, ее вечные боренья основных стихий — мрака и света. И от этой противоречивости мается и сам человек, становясь непредсказуемо то источником зла и мрака, то света и добра.
Так и шло дальше: день — утомительная дорога, ночь — пристанище в скромном крестьянском жилище. Бывало, что и задерживался на пару дней — чтобы своим трудом хоть немного отблагодарить за кров и пищу. Ночевал, как обычно, на крыше, под надзором звезд. Только так чувствовал себя в полной безопасности.
Но не раз возникала и еще одна, самая серьезная опасность — застрять в каком-нибудь кишлаке навсегда. Почему-то меня чаще всего направляли к тем домам, где уже не было мужчин, а только дети и женщины — вдовы погибших на бесконечной войне. Женщины еще молодые, ждущие, не устающие надеяться. Труднее всего было покидать их бедные глиняные хибарки, где каждый кусок застревал в горле под взглядами худых и явно голодных детей. Задерживаясь на несколько дней, старался помочь им в их нелегких крестьянских заботах. То приведу в порядок полуразрушенный дувал, то починю протекающую крышу. Однажды задержался на целых две недели. Женщина с двумя детьми — мальчиком и девочкой, такого же возраста, как и мои, — напомнила Дурханый своими теплыми светло-ореховыми глазами и нежным голосом. Я починил все что мог, заготовил дров на полгода и однажды на рассвете, не прощаясь, ушел. Ее надежда и ожидание становились все заметней. Если жениться, то сразу на всех обездоленных и несчастных женщинах. Или хотя бы, как заповедал Мухаммед, на четырех. Но я-то уже, наверное, больше не смогу никого полюбить. Ночуя у кишлачных вдовушек, был благодарен им, что не проявляли излишней инициативы и избавляли меня от того, чтобы отвечать им отказом. Но все чаще стали сниться мои дети — особенно Регина. Она бросалась мне навстречу, обнимала за ноги и все повторяла, как когда-то Дурханый: велблуд, велблуд. Несколько раз собирался повернуть обратно. Но все-таки ясное сознание законченности, исчерпанности той жизни снова приходило ко мне. Я понимал, что снова обрести своих детей смогу только в новой жизни — если она состоится. Так что, с болью в сердце уходя от них, все-таки шел к ним. Во всяком случае, именно так хотелось думать.