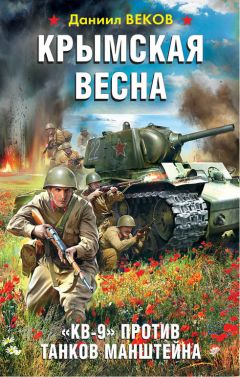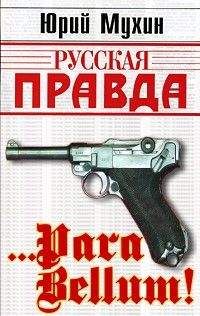Георгий Ключарев - Конец "Зимней грозы"
— Во-оз-дух! — непроизвольно заорал лейтенант. — Бомберы, прорва! Во-оз-дух!
«Восьмая» резко затормозила. Сзади, разбросанные по степи там и сям, виднелись другие наши танки, явно идущие на сближение. Всего на обозримом расстоянии, прикинул Кочергин, было машин двенадцать-четырнадцать. Они приближались. Самолеты, пеленг за пеленгом, уже заходили на бомбежку. Это были, теперь совершенно очевидно, «юнкерсы» — пикировщики, бомбившие прицельно. Немцы неизменно старались подавить все замеченные с воздуха цели, особенно танки, если с земли не было опознавательной ракеты, цвет которой постоянно менялся. Первым движением Кочергина было помешать танкистам занять место в общем строю. Машины следовало, напротив, по возможности рассредоточить. Догадается ли кто-то старший в танковой группе дать нужную команду? Сунув автомат сержанту, лейтенант вытащил ТТ, но и сам не услышал слабых хлопков пистолетных выстрелов в обрушившемся с неба звоне и реве моторов, пронзительном вое сирен пикировщиков…
* * *После того как сведенные в неполный батальон машины бывших танковых полков корпуса генерала Вольского в предрассветном сумраке ушли в рейд к Аксаю, на Верхне-Кумский обрушились бомбардировщики. Сваливаясь из крепнувшей дымчатой голубизной, зияющей выси, то «хейнкели», то «юнкерсы», роняя вороньи стаи фугасок, забивали небо над поселком. Если «хейнкели», сбросив бомбы, строй за строем проскакивали дальше, чтобы, басовито гудя, проплыть где-то в стороне и снова тяжело развернуться на бомбежку, то «юнкерсы», сжимая поселок в низком кольце, один за другим обрывались вертикально вниз, громом моторов, надрывным воем бомб и рвущим воздух пронзительным верещанием сирен вдавливая в щели все живое. Забившись в щели и недостаточно глубокие окопы, наспех выдолбленные в окаменевшей земле, оглушенные чудовищным грохотом взрывов люди, задыхаясь от дыма, пыли, жаркого и вонючего чесночного дыхания тротила, сжавшись, впивались в куда-то сдвигавшуюся, словно живую, корчившуюся как в агонии, стонущую землю. Вместе с брызгами разноцветного огня в глазах, наглухо заклеенных смеженными веками, разламывающий мир треск разрывов выбивал из онемевшего сознания Сыроежкина одну и ту же отрывочную мысль: «Не моя!.. Нет, снова не моя!.. Опять не моя!» И он все тяжелее давил на чью-то слабо вздрагивавшую спину, прижимая ее к земле всей тяжестью своего ширококостного тела, полузасыпанного бившими сверху комьями земли. Потом в голове военфельдшера смутно прорезалась, стерлась и тотчас снова всплыла нечеткая мысль, что он прикрывает, наверное, Галю, девочку-санинструктора, которая с пустыми и белыми от страха, огромными невидящими глазами впереди его падала в щель.
Как некстати ее прислала к нему накануне Софья Григорьевна!
* * *…Ближе к вечеру в санчасти, точнее, в относительно уцелевшем домике, кое-как приспособленном для этой цели, раненых не осталось. Всех, даже безнадежных, эвакуировали в Черноморов, в корпусной медсанбат, использовав для этого порожние грузовые машины, направленные за боеприпасами. Легко раненные еще раньше отбыли на пополнение частей. Сыроежкин впервые улучил момент перебрать и привести в порядок свои накопившиеся трофеи, большую часть которых составляли наручные часы, являвшиеся его слабостью. Они требовали бережного хранения, но до того ли было? Давно не удавалось хоть самую малость прикорнуть, а тут начались непрерывные бомбежки. В карманы, отягощенные множеством часов, снятых с ремней и браслетов (наиболее ценные браслеты хранились особо), набились земля и всякий сор. И вот военфельдшер наконец любовно обдувал и тщательно протирал чистой фланелевой портянкой каждые часы, и так и сяк поворачивая, лаская их грубыми узловатыми пальцами с крепкими, квадратными ногтями. Насладившись зрелищем блеска и игры красок металла, он аккуратно укладывал часы на другой такой же портянке, сортируя по форме, цвету циферблатов и по ценности. Как правило, каждые часы вызывали у Сыроежкина довольно отчетливые ассоциации, несколько портившие скудные мгновения счастья, вырванные им у отвратительной действительности, которую он надеялся как-то перетерпеть. Не то чтобы в нем хоть раз что-то шевельнулось, когда в глазах возникал зрительный образ бывшего владельца часов. Окровавленного, с криком рвущего на себе одежду, или едва слышно стонущего в бреду, или, скрипя зубами, корчившегося от чудовищной боли, раскаленным металлом выжигающей внутренности, или отрешенно упершего в потолок невидящий взор, а иногда уже окоченевшего, неприятно холодного. Нет, Сыроежкину не были свойственны глубокие эмоции. Но эти навязчивые образы досадно отвлекали и, как ложка дегтя в бочке меда, портили ему праздник.
Оконные проемы домика кое-как были забиты раздобытыми в развалинах досками, и только приоткрытая дверь пропускала в помещение немного света. В нем часы скупо поблескивали желтыми и белыми искорками, пестрели светлыми, цветными, черными циферблатами, слабо светились цифрами. Заведенные часы, знал Сыроежкин, лучше переносят удары и тряску, и его слух ласкало вибрирующее шуршание. Часы тикали. Когда свет в дверях внезапно померк, он с заколотившимся сердцем едва успел накинуть на подоконник полу шинели. Меньше всего ему хотелось бы, чтобы свидетельницей его занятия оказалась Софья Григорьевна. Ее язвительные шутки всегда приводили Сыроежкина в замешательство, что для нагловатого и самоуверенного человека, каким он был, совсем несвойственно и потому особенно неприятно. Ответить тем же он никак не мог, потому что начисто был лишен чувства юмора, все принимал однозначно и от шуток в его адрес жестоко страдал. Но ведь Софья Григорьевна, и в этом Сыроежкин как следует убедился, поехала в Черноморов сопровождать раненых в кабине одной из машин и скоро не вернется. После гибели санитарных автофургонов полка ей ни разу не удавалось выбраться в медсанбат, чтобы раздобыть самое необходимое. А это не так-то просто!
В первый момент военфельдшер уловил только, что на пороге стояла женщина, но откуда бы она могла здесь взяться, если это не Софья Григорьевна? Однако он тут же сообразил, что напрасно поддался паническому чувству, и, ощущая, что весь взмок, по возможности непринужденно уселся на подоконнике прямо на часах и расстегнул пуговицу ворота.
«Вот чертова баба! — мысленно обругал он Софью Григорьевну. — Слабина Бережнова! Туда же, начальство корчит. Приучила шарахаться от своих подковырок. А ведь у самой насчет трофейного губа не дура, разве что часами не интересуется», — досадовал он на некстати разгоревшиеся щеки, никогда раньше его не подводившие.
— Ну чего дверь заткнула? Входи, коли до меня дело! — как можно непринужденнее, неровным голосом пригласил он стоявшую.
— Товарищ военфельдшер! Санинструктор Чижикова прибыла в ваше распоряжение! — звонко отрапортовала маленькая девушка, мягко шагнув в комнату с высокого порога. В валенках, в широкой не по росту и короткой, выше коленей, подрезанной солдатской шинели, перетянутой потертым комсоставским ремнем со звездой на пряжке, она имела какой-то невоенный, располагавший к фамильярности вид. И видимо, поэтому старалась держаться подчеркнуто самоуверенно. Рукавицу правой руки девушка прижала к ушанке, как бы поддерживая ее, чтобы та не сползла на брови.
Сыроежкин заложил ногу на ногу (так ему показалось сидеть естественнее) и, чтобы не подавить стекла часов, уперся руками в подоконник. От напряжения его коленку трясла заметная дрожь, которая все усиливалась. Поэтому девушку он разглядел не сразу.
— Побегала по поселку, пока вас нашла, совсем умаялась! На санчасти ни надписи, ни знака какого нет, а спросить-то некого, — продолжала та, все более удивляясь странной позе военфельдшера и начиная подозревать его в нетрезвом состоянии. — А кого спросишь — не говорят. Один командир как шуганул! Дислокация частей, говорит, военная тайна! — опустила она наконец руку, чтобы поправить большие сумки, которые, оттягивая скрещенные на высокой груди брезентовые ремни, висели у бедер.
— Откудова свалилась? — неприязненно спросил Сыроежкин, подозрительно косясь на сумки. — Ты никак к нам с подарками?
— Нашу-то санчасть совсем разбомбило. Одна я осталась, а этим, — коснулась она сумки, — в немецкой обзавелась. Плазма в них, в ампулах, кровяная. Мне один лейтенант перевел, очкарик. Я сразу смекнула, что немецкий-то он должен знать, ученый вид у него. Тот лейтенант меня к вашей Софье Григорьевне и привел. Уезжала она и велела вас разыскать, только поздно было, так я с утра…
— А родом откудова будешь?
— Из Бекетовки, со Сталинграда я. Галей зовут, по комсомольскому призыву на курсы и вот… Мама у меня дома осталась: в Бекетовке немцев-то не было, спокойна я за нее, а папа еще в сорок первом без вести пропал, — продолжала Галя, немного смущенная тем, что вот так зря нехорошо подумала о военфельдшере, который в общем-то симпатичный, видный такой и не выпендривается, как иной раз делают маленькие начальники.