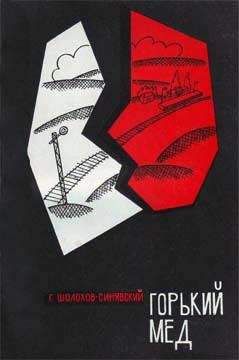Георгий Шолохов-Синявский - Волгины
Женщина в халате ласково смотрела на нее. Она не знала, что отвечать этой неизвестной красивой женщине. Кето, окровавленную, в разорванном платье, с тяжелым ранением левой ноги, вместе с другими ранеными, изуродованными мужчинами и женщинами, принесли сюда, в бомбоубежище, бойцы местной противовоздушной обороны. Ребенка с ней не было.
— Лягте, лягте, — попросила фельдшерица. — Успокойтесь.
Она попыталась уложить Кето, но та упиралась. Вот она увидела свое разорванное платье, кровь, увидела рядом с собой стонущих, взывающих о помощи людей, и глаза ее загорелись безумным блеском.
Она с отчаянной настойчивостью повторила вопрос: где ребенок? Куда девали ребенка? Где Стася, Иван Егорович, Марья Андреевна? Фельдшерица не хотела лгать и выдумывать. Она не видела никакого ребенка, не знала ни Стаси, ни Ивана Егоровича, ни Марии Андреевны. Может быть, они тут, в подвале, ведь здесь такая масса раненых людей. Прошло полчаса, как кончилась бомбежка, а их все носят со станции бойцы противовоздушной обороны…
Сердце фельдшерицы словно окаменело. Бог знает, как она будет работать, хватит ли у нее сил: так у нее дрожат руки, и крови вокруг столько, что она ничего подобного не видела за всю свою жизнь.
В глазах Кето было столько муки, что в другое время фельдшерица могла бы расплакаться, закричать (подумать только — потерять ребенка!), но сейчас все заледенело в душе ее.
Фельдшерица позвала санитарку, и они стали держать Кето за руки, уговаривать:
— Успокойтесь, милая… Мы найдем вашего ребенка, успокойтесь…
— Найдите его! Спасите! Найдите!.. — выкрикивала Кето, пытаясь встать с носилок. — Стася! Марья Андреевна!..
Она не скоро потеряла сознание. Только большая потеря крови надолго погасила его.
И в эту минуту санитары внесли в бомбоубежище еще двух женщин: одну молоденькую девушку с веснушчатым, как скорлупа сорочьего яйца, лицом, сильно контуженную воздушной волной, потерявшую способность что-либо соображать и говорить (это была Стася), и другую — полную, с пышными золотистыми волосами, смертельно раненную осколком в живот. Марья Андреевна уже очнулась и тихонько стонала.
— Сюда ставь… не неси дальше, там же нет места, — сердито сказал пожилой санитар молодому и опустил носилки недалеко от входа.
Здесь было сумрачно, свет коптилки слабо достигал сюда. Запах крови был здесь особенно силен.
— А как же носилки? — спросил молодой санитар. — Носилки-то нам нужны… На чем же мы будем других носить?
— А ты не спорь. Не бросишь же ты ее здесь. Не полено ведь. Видишь, вся кровью истекла. Шальной ты… Я вот тебя укрощу, — пригрозил пожилой санитар.
Подошла фельдшерица, сердито прикрикнула:
— Что вы тут шумите?
— Нам носилки нужны. Не можем же мы работать без носилок.
Фельдшерица нагнулась над Марьей Андреевной и тотчас же отшатнулась.
— Возьмите другие носилки — там освободились, — сказала она и крикнула: — Сестра! Бинты! Вату!..
К бомбоубежищу подъехал санитарный автобус, и тяжелораненых стали выносить из бомбоубежища.
Марья Андреевна была еще в сознании. Мысль ее работала напряженно и ясно. Она попросила пить и, когда полная фельдшерица наклонилась к ней, чтобы наложить на живот временную повязку и хотя бы немного остановить обильное кровотечение, спросила очень тихо, прерывисто:
— Вы не видели тут… женщину с ребенком? Такая худенькая, черноглазая… Екатериной Георгиевной зовут?..
Фельдшерица была так взволнована, что не расслышала слов Марьи Андреевны. Опять ее спрашивали о ком-то, но она не знала ни одного имени. По землисто-серым пятнам на лице женщины, по тускнеющему взору фельдшерица определила: несчастная скоро умрет. Но она все же наложила вату и бинт.
Дыхание Марьи Андреевны становилось все более прерывистым и слабым. Что-то клокотало в ее горле. Полная грудь высоко поднималась и как-то сразу опускалась, точно проваливалась.
— Петенька! Петя! — вскрикнула вдруг Марья Андреевна и затихла.
Фельдшерицу позвала санитарка, и она на минуту отлучилась к другому раненому, которого только что принесли. Она быстро сделала перевязку, вернулась к Марье Андреевне. Та лежала тихо. В это время врач, руководивший погрузкой раненых в автобус, освещая карманным фонариком фельдшерицу и носилки с Марьей Андреевной, спросил:
— Эту, что ли, брать? У меня еще одно место. Предупреждаю — я беру только тяжелых.
Фельдшерица и врач склонились над носилками.
— Она умерла, — недовольно сказал врач, светя фонариком прямо в неподвижное, сохранившее свое доброе выражение прелестное лицо Марьи Андреевны и отворачивая ей веко. — Давайте другую…
— Возьмите эту, пожалуйста, — сказала фельдшерица, подводя врача к Кето, все еще находившейся без сознания.
Санитары подняли носилки и понесли…
24Сбросив многотонный груз фугасных и зажигательных бомб, эскадрилья тяжелых бомбардировщиков «Хейнкель-111» взяла курс на запад. Командир майор Бюхнер, имеющий рыцарский крест за операцию на острове Крит, произвел радиоперекличку боевых единиц. Из двадцати семи машин не отзывалась только одна — молодого лейтенанта Людвига Ренке.
— Ренке! Ренке! — звал Бюхнер в микрофон.
Ренке, которого он считал своим питомцем и способным учеником, не отвечал.
— Повидимому, у него испортился передатчик, — подсказал флагману Крюгге, шедший третьим в воздушном строю.
— Не могу допустить этого, — недовольно буркнул в микрофон Бюхнер. — Я говорил с ним три минуты назад, в момент бомбометания. Ренке положил груз очень точно.
Эскадрилья шла над темными лесами Белоруссии. Высоко над землей плыл хриплый ноющий гул. Позади поднималась махровая стена пламени. Это горели эшелоны, нефтесклады, вагоны и пакгаузы на станции Барановичи.
— Ренке! Ренке! — снова принимался звать Бюхнер. — Как вы думаете, Крюгге, не путается ли он где-нибудь рядом? Не может быть, чтобы его подбили.
С минуту в шлемофоне Бюхнера что-то потрескивало, потом снова послышался голос Крюгге:
— А здорово мы угостили нынче русских. Я вывалил весь свой груз прямо на вокзал. Давно я не видел такого зрелища. Хотел бы я, чтобы наш пузан Геринг посмотрел на эту работу.
В шлемофоне послышался суховатый смешок Крюгге.
— Мне жаль Ренке, — не успокаивался Бюхнер. — Если он погиб, это большая утрата для нас.
— Я не верю в его гибель, — коротко ответил Крюгге.
В разговор вмешался третий веселый голос:
— Эй вы, Крюгге!
— А-а… Штрумпф? Здорово, чурбан!
— Доброй ночи, шалун. Как у тебя настроение?
— Как у голубя. Одно плохо — мы, кажется, потеряли Ренке…
— Я слышал. Не может быть: не такой парень…
— Правда, мы здорово всыпали нынче русским?
— Что и говорить. Они жарятся, как каштаны. Я не завидую сейчас тем, кто в Барановичах.
— Ренке! Ренке! — продолжал устало звать Бюхнер.
Но Ренке не отвечал: его бомбардировщик горел в лесу под Барановичами…
На станции тем временем пожарники и бойцы местной противовоздушной обороны продолжали вытаскивать из-под обломков раненых и носить их в бомбоубежище. От огня всюду было светло, как днем, и отличать живых от мертвых было не трудно.
Толпы людей шли по улицам из города — в поле. Дорогу им освещали красные отсветы бушевавшего на станции пожара. По мостовой, по розоватосветлым стенам домов мелькали длинные уродливые тени.
Две женщины — низкорослая, полная, как румяное налитое яблоко, одетая в широкую сборчатую юбку и расшитый красной нитью полотняный передник, и высокая, пожилая, с крутыми мужскими плечами — шли по дороге.
Город давно остался позади, и только видно было красное дымное облако. Занимался рассвет. Над ржаным душистым полем заводил свою раннюю песню жаворонок. С каждой минутой становилось все светлее. Румяный свет еще не видного за лесом солнца разгорался все ярче. Жаворонки заливались все громче. А люди все шли и шли, и среди утренней тишины был слышен их торопливый топот, усталое натруженное дыхание. Молодайка в вышитом переднике бережно прижимала к груди какой-то сверток. Пожилая высокая женщина вдруг остановилась.
— Ох, мати божья! Не можу больше, ой, не можу, — громко вздохнула она и села тут же, у дороги. — Долго ли мы еще идти будем? Я уже и ноги себе сбила.
Молодайка в переднике опустилась рядом со своей спутницей, осторожно приоткрыла верхнюю часть свертка, дохнула туда широко открытым ртом.
— Тетка Марина, дытына наша морщится, ей-богу, исты хоче. Ох, боже ж мий! Що я буду с нею робыть?
— Да де ж ты его взяла, Парася, я так и не зрозумию? — спросила пожилая женщина, обвязывая тряпкой ногу.
— А я ж кажу вам — не знаю. Когда вин начав бомбить, мы ж легли з вами в тот ривчак. Коли дывлюсь — подо мной дытына. Я и сама не помню, як я его схватила. Потом спрашивала, чья дытына, никто не знает. Да и мы ж побиглы с вами со станции.