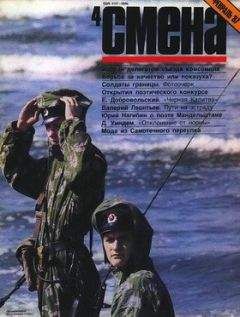Виталий Мелентьев - Варшавка
Он окончательно но как-то тяжко, мрачно успокоился, побродил еще немного и вернулся в землянку. Ребята готовились пить чай, обсуждали наступление на среднем Дону.
Молчаливый Костя сидел с края стола, прислушивался, изредка исподлобья присматриваясь к товарищам.
«А в самом деле, кого оставить за себя? А то так, кто вместо меня заступит? Малков?
Потянет, но… своенравный и слишком уж уважает себя. Хоти… Хотя вот и ребят подобрал и возится с ними, обучает. Но как-то свысока, что ли… А может, так и нужно? Держать дистанцию. Все ж таки командир… Засядько? Просто молод. Тихий, скромный, исполнительный… И рядом и словно нет его… Пожалуй, и потребовать не сумеет. А может, я его не сумел разглядеть? Может, есть в нем, ведь в каждом есть что-то свое, но обязательно нужное людям. А я не знаю… Итак — Джунус… Он — воин и… командир.
Скажет — впечатает и назад ни шагу. Но, обратно же, есть в нем… вернее, не в нем… Хотя нет. Все в нем есть. Нет одного — умения говорить. И не потому, что он слабо знает русский — он, наверное, и свой казахский теперь подзабыл. У него пет этого… умения говорить с людьми. Молчун. — Он задумался перебирая в памяти все, что знал о Джунусе, и внезапно для себя задал себе же вопрос:
— А может, и не нужно ему говорить? Может, достаточно одного примера? Научить оп научит. На это у него и опыта и, обратно же, умения вполне хватит. И проконтролирует как никто, — он же все видит, все замечает».
И оттого что Джунус вроде бы по всем статьям подходил ему в заместители и, значит, в преемники, Костя повеселел и великодушно подумал: «Жаль, конечно, что Колпаков задерживается… Этот бы тоже подошел», — но сейчас же вспомнив, что Колпаков по-прежнему пишет только Джунусу, хотя и обращается ко всему отделению, решил; «Да, вот это — командир».
От всех этих успокоительных, а под конец даже и веселых мыслей Костя опять стал самим собой: «А-а… Живы будем — не помрем. А помрем — воскреснем».
После чаепития ребята устраивались на ночь, а Костя пошел к Марии.
Шла артиллерийская дуэль — две упрямых батареи, спрятанные в лесах, а может, и в оврагах, садили друг в друга снаряды, и они плыли над головой с гусачьим шепелявым свистом — дело, по всему, подвигалось к оттепели.
Костя шел по знакомой тропке весело, спокойно и, когда встретился с Кривоножко, почтительно уступил ему дорогу и отдал честь. Старший политрук недавно стал капитаном — пришел приказ о присвоении звания — и последнее время часто бывал в батальонных тылах, «подкручивая ослабевшие гайки». Басин молчаливо согласился с таким разделением забот: политработа в новых условиях — ведь это, кроме всего прочего забота о подчиненных. И забота эта исходит и от тыла.
Капитан Кривоножко молча, ко приветливо улыбнулся Жилину, но когда они разминулись, оглянулся и долго смотрел вслед, гадая, почему командир отделения снайперов все еще пользуется откровенным благорасположением и нового комбата.
Жилин явно и нахально шел в самоволку. В тылах ему делать нечего. Но Кривоножко уже научился не спешить: войны еще хватит, следует действовать рассудительно, но решительно.
Только в этом случае добьешься успеха.
Это были уже новые, капитанские мысли и чувства Кривоножке. Но Костя, естественно, о них не знал. Он по простоте думал, что все идет как шло раньше, и, пожалуй, даже радовался, что Кривоножко нашел себя и стал явно неплохим человеком. Таким, которого можно и нужно уважать.
Глава шестнадцатая
Мария сумерничала. В теплой землянке смутно белели постели, неживым бельмом иногда вспыхивало крохотное оконце — позади батальонных тылов рвались снаряды — шла артдуэль. Пахло лекарствами, травками и сухой землей. На жиденьких накатах возились мыши… Мария сидела одна — фельдшерицу вызвали на совещание. Последнее время почему-то развелось много мышей, и они переносили странную, никому не известную болезнь туляремию. Медицина совещалась перед объявлением войны мышам.
Когда пришел приказ о присвоении нового звания Кривоножко, его, естественно, решили «обмыть» своим командирско-политработническим коллективом. Командир хозвзвода лишний раз съездил в тылы полка и даже на ДОП — дивизионный обменный пункт, где были главные склады дивизии, всякими правдами и неправдами достал половину мороженого барана — из тех, что привезли монголы в подарок фронту, и, главное, уксусу и перцу: решили «сварганить» шашлыки. Водка была, картошка, консервы и всякие мелочи — тем более. Повар, а вместе с ним и Мария, заразились общей приподнятой суматохой, варили, жарили и парили, сетуя, что нет посуды: им хотелось утвердить хорошую славу батальона перед приезжими гостями — агитатором и секретарем партбюро полка и, главное, двумя инструкторами из политотделов дивизии и армии.
Вечер удался. Шашлыки промариновались и жарились так, как и положено было жарить эту пишу богов и воинов, — не на пошлых шампурах, а самых настоящих шомполах и не в каких-нибудь шашлычницах или мангалах, на которых мясо скорее парится, чем жарится, а на открытых углях от костра — пышущих, перемигивающихся, отдающих свой неповторимый, с пригорелой горчинкой дух маринованному мясу. Ветер дул с запада, и потому до немцев не доходил запах этакой вкуснотищи. Не волновал он и ребят с передовой…
Командиры рог, их заместители по политической части, командиры отдельных взводов и приданных а поддерживающих их средств сидели весь вечер, а командиры строевых взводов заходили по очереди — им преподносили шашлык, водку и, что пользовалось не меньшим успехом, селедку с луком. Люди крякали, поздравляли замполита и отмечали:
«Живут же люди…» Вся эта общая веселая и немножко почтительная по отношению к Кривоножко кутерьма сильно укрепила и его авторитет и авторитет всего батальона, а прежде всего Басина — он сумел сплотить командиров и полит работников, и, значит, слава об этом батальоне идет не зря.
Мария часто появлялась в землянке — она работала и за хозяйку — повар жарил шашлыки — и за официантку. После третьего тоста в землянке комбата стало дымно и шумно, официальность исчезла, и один из инструкторов политотдела, внимательно вглядевшись а Марию, позволил себе пошутить:
— Ты где ж, капитан, такую кралю отхватил? Ведь ваш батя женщин не жалует.
Трижды разведенный до войны командир полка и самом деле не любил женщин, и в полку они не держались — разве что самые необходимые: машинистка, врач и несколько санинструкторов и санитарок на полковом медпункте да батальонная фельдшерица. Басин усмехнулся и ответил:
— Батальон такой — сами прибиваются.
Посмеялись, заговорили о боях на юге, и Мария, ловко убирая со стола, вдруг впервые за долгое время застыдилась своих больших красных рук, о теперь еще, от возни с картошкой, и черных на концах пальцев, своей неуклюжей, в ватных брюках, фигуры, заалелась и опустила взгляд. Сердце будто провалилось. Но когда она, убирая посуду, нечаянно взглянула на Басина, то уловила его встревоженный взгляд, который сейчас же сменился на ободряющий и в то же время чем-то болезненный.
Потом уж пришла фельдшерица со старшим лейтенантом Зобовым, и Мария отпросилась у повара домой. Она бежала по тропке, у землянки остановилась и долго разбиралась в себе, но ничего толком не поняла и молила только об одном: чтобы не пришёл Костя. И он не пришел. Ни в тот вечер, ни на следующий. На передовой секреты долго не держатся, и Мария знала, что у него были неприятности и что артиллеристы, а потом и другие стали поговаривать, что снайперы только болтать умеют, а как настоящее дело — так у них и не получается…
Мария ждала Костю. Ждала и впервые не знала, как себя вести с ним. Что-то легло между ними, а сама она как бы раздвоилась…
Когда Костя вошел в землянку, у нее замерло сердце так, словно она ждала чего-то плохого, страшного. Но это быстро прошло, однако подняться ему навстречу, сказать ласково-грубоватые слова она не могла.
Костя сразу почувствовал нечто тревожное, непонятное, хотя еще не видел Марии. Он только ощущал, что она сидит на своем топчане, что она ждет, но ждет не так, как всегда.
Он медленно подошел, коленом нащупал ее колени и сел рядом. Молчали долго, и Костя спросил:
— Ты чего такая? Устала? — И легко, ласково положил руку на плечо.
И столько нежности и тревоги почудилось ей и в тоне и в этом прикосновении, что она со стоном обернулась, упала ему в колени и заплакала — горько-приятно, освобождающе.
Костя молча гладил ее вздрагивающие плечи, изредка вытирал ее глаза, и она постепенно успокаивалась. Любил он ее в тот вечер успокаивающе заботливо, но в душе у него тоже копилась горчинка — что-то пошло у них не так. Что-то стали они скрывать друг от друга, и он, как истинный мужчина, думал в тихие, чуть отчужденные минуты отдыха не о себе, а о том, что ей здесь трудно, одной, среди мужиков, что он не может ни защитить ее, ни помочь — им положения, ни тех условий. А он хотел помочь ей и защитить… И горчинка растекалась в нем, отравляла, и он вспомнил, что хотел докопаться до ее прошлого.