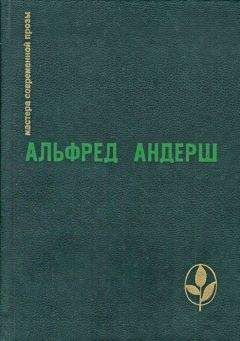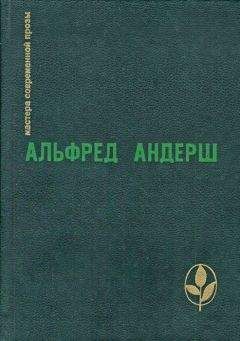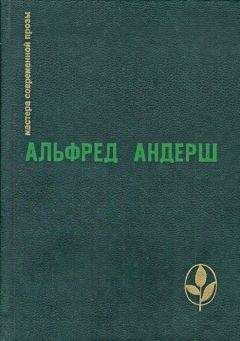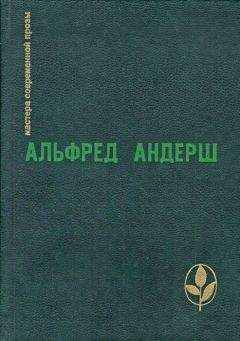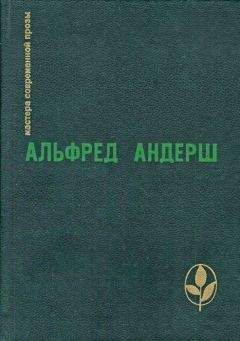Альфред Андерш - Винтерспельт
— Это можно, — сказал он, вынул карманный фонарик, который всегда носил с собой, и посветил себе в лицо. Она увидела его синие глаза за стеклами очков в черной роговой оправе.
— Нет, — сказала она, — это не то. Я имела в виду уличный фонарь.
Но тут кто-то закричал из темноты: «Погасите свет!»
Лоренц проводил ее до Потсдамерплац-дальше он идти не мог, так как ему надо было вовремя успеть в казарму. Они останавливались и, обнявшись, целовались-особенно когда шли через Тиргартен. Кэте нравилось в Лоренце все, кроме затхлого и в то же время какого-то металлического запаха его военной формы.
— Когда я шла по Заарландштрассе, завыли сирены, — рассказывала Кэте. — Налет я переждала в метро под Заарландштрассе. Он продолжался далеко за полночь, целых три часа, потом наконец дали отбой. Там, в центре Берлина, почти ничего не было слышно. А вы, собственно, знаете Берлин? — спросила она Динклаге.
— Я был там раза два-три, — ответил он. — Но почти не знаю города.
Она утаила от него, как утаила и от Хайнштока, что все время, пока сидела в метро под Заарландштрассе, думала о своем друге Лоренце Гидинге, бывшем студенте Академии художеств, ныне ефрейторе «Люфтваффе», который благодаря давно закрывшемуся туберкулезу и связям сумел до февраля 1944 года продержаться на безопасном месте в военной библиотеке. Но жить ему полагалось в казарме, а Кэте отказывалась уйти из родительского дома и снимать комнату. Они решали проблему по-иному: уезжали в гостиницу в Закров, когда Лоренц получал увольнительную на ночь. Родители Кэте не возражали против того, что она иногда не ночевала дома: в конце концов, ей двадцать четыре года, она уже преподавала и скоро должна была получить звание штудиенреферендара; это было им приятнее, чем если бы Лоренц, который иногда заходил к ним в дом и которого они находили симпатичным, проводил ночь в комнате Кэте. «Если бы мы поженились, я, может быть, получил бы разрешение жить не в казарме, а на частной квартире», — сказал как-то Лоренц. «Неужели ради этого», — сказала Кэте, но даже не потрудилась добавить «стоит жениться».
— После отбоя я пошла на станцию Анхальтский вокзал, городская железная дорога уже снова работала, я сразу же села в поезд, шедший в Мариенфельде. Товарная станция в Мариенфельде была вся в огне, но над кварталом справа от Мариенфельдского проспекта, где мы жили, не было отсвета пожара.
Она вспомнила, какое испытала облегчение, увидев, что небо над тем кварталом, где она жила, такое темное, по нему плыли розоватые и песочно-серые облака, поднимавшиеся из пламени на товарной станции. Сейчас Кэте отчетливо видела, как свернула тогда на Ханильвег, как, все замедляя шаг, подошла к толпе, окружавшей то место, где стоял дом, в котором она жила со своими родителями.
— Спрашивать было не о чем, — сказала она Динклаге. — Если не осталось ничего, кроме груды обломков, то и вопросов не могло быть. Вы понимаете?! Что же произошло? А вот что: не стало родителей, вот так вдруг, просто не стало-и все. Ни отца. Ни матери. Вот что произошло. Вот что произошло. Вы понимаете?!
Динклаге ни на секунду не предавался иллюзии, что, настойчиво и ожесточенно повторяя слова «Вы понимаете?!», Кэте действительно имела в виду его, искала у него сочувствия. Она разговаривала сама с собой, самое себя призывала понять, потому что до сих пор не поняла и никогда не поймет, что произошло, потому что ни один человек не способен понять, почему такое может произойти, ибо для этого нет объяснения, нет ничего, что могло бы придать случившемуся хоть какой-то смысл. Даже такое старое и затасканное слово, как «судьба», не подходит, идиотское слово, только на то и годное, чтобы приукрашивать последнее дерьмо, давно пора вычеркнуть его из всех словарей, потому что судьбы нет, есть только хаос и случайность, из которых ученые глупцы извлекают статистические данные, полагая, что таким образом наводят порядок. «Родители Кэте вошли в статистику несчастных случаев, статистику хаоса», — подумал Динклаге, — в число жертв империалистической войны, считал Хайншток; однажды он сказал это Кэте, притом в такой момент и таким образом (деловито, сухо), что она с этим согласилась.
Динклаге не находил слов, чтобы выразить свою мысль о хаосе. Он не мог сказать этой девушке, в которую влюбился до потери сознания, ни слова утешения и потому должен был молчать, но он так мучительно осознавал бессилие своего языка, что встал и, слегка прихрамывая, принялся расхаживать по канцелярии, нет, не по самой канцелярии, потому что стол был накрыт в соседней комнате, в той, на двери которой штабс - фельдфебель Каммерер повесил табличку с надписью «Командир». Время от времени он бросал взгляд на Кэте, опасаясь, что она начнет плакать, но Кэте не плакала.
«Нужно раз и навсегда перестать рассказывать о гибели родителей», — подумала Кэте.
О том, какое действие разорвавшаяся фугасная бомба, возможно, даже средней мощности, может оказать на маленькую виллу, сложенную из клинкерного кирпича, Хайншток, как специалист по камню, а следовательно, и специалист по взрывам, конечно, знал, но свои знания он оставил при себе.
Ему, а не Динклаге, в разговоре с которым она теперь мучительно пыталась перейти на другую тему, Кэте рассказала и то, что с ней было потом.
— Одна соседка заговорила со мной, сказала, чтобы я осталась у нее жить. Но я повернулась и пошла обратно к станции Мариенфельде. Остаток ночи я провела на скамье в зале ожидания на Анхальтском вокзале.
Самым невыносимым из того, что ей предстояло еще осознать, сказала она Хайнштоку, был тот факт, что отец и мать вовсе не исчезли бесследно, а, по всей вероятности, превратились в бесформенное, расплющенное кирпичом месиво, которое, из-за опасности возникновения эпидемии, необходимо было на другое же утро раскопать и отскрести от обломков.
— Папа и мама стали очагом заражения. Ты понимаешь?
Она сказала, что когда вообразила себе это, то испустила
крик, которого, однако, не услышал никто из сидевших в зале ожидания на Анхальтском вокзале.
— Я действительно закричала, но они вовсе не притворялись, будто не слышат моего крика, они его в самом деле не слышали.
— Ты кричала, конечно, но не раскрывая рта, — сказал Хайншток.
Она покачала головой, отказываясь принимать такое объяснение.
На Ханильвег Кэте Ленк больше не появилась ни разу. Ведомство по делам школы сразу же нашло для нее комнату. Она прервала работу только на один день. Поселившись в меблированной комнате в Штеглице, она сделала все что требовалось: захоронила останки родителей на городском кладбище на Альбоин - плац, получила новые продовольственные карточки и документы, подала заявление в ведомство по возмещению убытков, добилась, что была признана-как единственная дочь своих родителей — единственной наследницей, перевела счет отца в коммерческом банке, на котором лежало чуть больше 25 тысяч рейхсмарок, на свое имя, уволилась из школы в Фриденау. 15 апреля 1944 года, через десять дней после пасхи, она покинула Берлин.
На следующий день после гибели родителей она, отбросив наконец сомнения, решилась позвонить Лоренцу в военную библиотеку. Он спросил только, как все произошло, а вечером, когда они сидели в почти пустом кафе на Ноллендорфплац, сказал, глядя мимо нее: «Тебе не повезло». И только тогда она заплакала и, как ей показалось, проплакала несколько часов. Она всегда будет благодарна Лоренцу за то, что он в тот вечер спокойно вынес ее «многочасовые рыдания» — как она выразилась - и не пытался ее утешать. Он просто сидел рядом, отослал официантку, которая пыталась заговорить с Кэте, пил эрзац - кофе, давал ей возможность выплакаться. Когда она перестала плакать, он вытер очки, которые Кэте пришлось снять, и вернул ей.
Как-то, это было уже потом, во время прогулки по берегу Закровского озера, она спросила его:
— Ты случайно не знаешь, где находится Линкольншир?
— Нет, — сказал он, подумав. — Точно не знаю. Я только учил, что в городе Линкольне — один из самых прекрасных английских кафедральных соборов. А что?
Кэте уже написала фройляйн Хезелер, что больше не будет заниматься английским.
— В доме, — сказала она, — должен быть географический атлас, тогда это дом.
— Ах, вот ты о чем, — сказал Лоренц и, помолчав, добавил: — Когда война кончится, поедем в Линкольншир, Кэте! И в Лондон, и в Париж, и в Нью-Йорк.
Почти дословно то же самое сказал ей как-то майор Динклаге и удивился, почему встретил с ее стороны отпор.
— После войны мы с тобой будем бог знает где, — сказала Кэте майору. И, отклоняя его предложение — потому что она хотела защитить свои воспоминания о Лоренце, — еще холоднее добавила:-Я не буду дожидаться, пока какой-нибудь мужчина возьмет меня с собой в дорогу.
Она смотрела, как Лоренц рисует озеро-углем на большом листе белой бумаги, заросли камыша превращались у него в жесткие, яростные штрихи. У него были черные, гладкие, густые волосы; лицо смуглое, с крупным носом, напоминавшее чеканку на римских монетах. Синие глаза смотрели сквозь стекла очков в черной роговой оправе на озеро, на тростник.