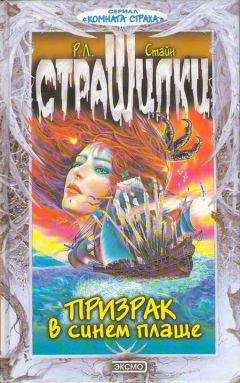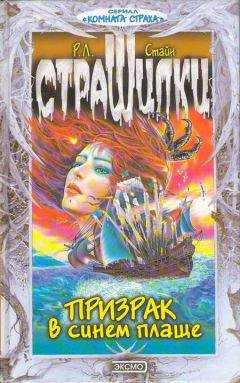Владимир Порутчиков - Брестский квартет
«Так, похоже, пора линять», — понял Дима. Осторожно выглянул из-под тента и, убедившись, что голоса звучали со стороны кабины, мягко, как кошка, спрыгнул на землю и незамеченным шмыгнул в кусты. Карманы галифе приятно оттягивали банки с тушенкой, — по одной в каждом, чтобы не гремели, еще парочка с американскими консервированными сосисками холодила уже урчащий в предвкушении вкусного «хавчика» живот.
«Спирту бы еще — и совсем лафа! — подумал Брестский и тут же нос к носу столкнулся с комдивом. — Что он в такой ранний час делает в расположении медсанбата? Хотя понятно…»
В дивизии уже давно поговаривали, что у Андреева роман с военврачом — красивой, чем-то похожей на Любовь Орлову женщиной лет сорока — по слухам, вдовой.
А комдив тем временем заметил и оттопырившуюся над ремнем гимнастерку и отяжелевшие карманы галифе. Бросил быстрый взгляд в сторону грузовиков и снова уставился на Брестского, да так, что Дима даже вспотел.
— Эт-то что такое? А ну-ка, позвольте полюбопытствовать, товарищ боец.
Брестский с растерянным видом достал из-за пазухи сначала одну банку, затем под пристальным, все более наливающимся гневом взглядом комдива другую.
— А в карманах что?
— Да тушенка, товарищ комдив… — виновато затянул было Дима, видя, как пошло пятнами лицо Андреева и глаза потемнели от гнева.
— У своих?! У раненых воруешь? Подлец! Вас что, в разведроте плохо кормят?..
— Виноват, товарищ комдив…
— Виноват?! Разведчиков позоришь!.. Эх, если бы не знал тебя лично — поставил бы к стенке! Так… Немедленно все вернуть откуда взял и… доложишь ротному, что на две недели убываешь в распоряжение хозвзвода — скажешь, что я приказал.
Дима не спорил. Он понимал, что легко отделался, хотя перспектива пилить дрова и драить котлы в то время, как твои товарищи уходят в поиски, была для Димы невыносима, но… Он быстро сгреб с земли банки и бегом вернулся к машинам. Около одной из них курил козью ножку пожилой шофер. Двое санитаров уже таскали ящики с тушенкой в раскрытую дверь склада. Увидев Брестского, они остановились около входа и с интересом воззрились на него.
— Вот, батя, по дороге потерял… Повнимательней надо, — буркнул красный, как рак, Дима и, свалив банки у ног шофера, быстро зашагал прочь…
Теперь, стоя перед Чибисовым, Брестский вдруг подумал, что тогда ему все-таки подфартило — судьба подарила целых две недели жизни. Не столкнись он в то утро с комбатом, мог бы вполне «зажмуриться» в одном из неудачных рейдов.
На рассвете, по заранее подготовленному саперами проходу, переодетые в форму вермахта разведчики — «Брестское трио», как теперь в шутку называл тройку неразлучных друзей комдив, пересекли нейтральную полосу, несколько линий немецких окопов и никем не замеченные (расчет оказался верным — немцы спали) углубились во вражеский тыл. А еще через сутки уже наблюдали за идущей краем леса дорогой километрах в тридцати от передовой.
Поначалу выбранное место показалось не очень удачным. Целый день по грунтовке, в основном в сторону фронта, почти непрерывным потоком шли длинные конные обозы, сновали грузовики и легковые машины, поэтому захватить кого-либо не представлялось возможным. Чибисов уже стал всерьез подумывать о смене позиции, как вдруг им на помощь пришел сильный, поднявшийся ближе к ночи ветер. Он гнул до земли деревья, и в лесу поднялись такой треск и шум, что даже разведчикам, отошедшим на ночевку подальше от дороги, стало не по себе.
Только Крутицын, с усмешкой глядя на буйство природы, сказал:
— В старину говорили, леший гуляет.
Причем по выражению его лица было трудно понять, шутит он или говорит всерьез. Брестский при этих словах еще плотнее прижался спиной к высоченному дубу, под которым сидел, с трепетом ощущая, как внутри древесного великана при каждом порыве ветра словно напрягаются, потрескивают тугие, уходящие глубоко в землю канаты. С тем и заснул. Смежил отяжелевшие веки и Чибисов. Лишь оставшийся дежурить Крутицын (через два часа его должен был сменить Брестский) продолжал пялиться в темноту, все время мысленно возвращаясь к одному и тому же произошедшему днем эпизоду…
В очередном, проходящем мимо затаившихся разведчиков обозе вдруг захромала лошадь. Она тянула груженную какими-то мешками повозку. Немолодая уже кобыла, черной масти, с коротко стриженным на немецкий манер хвостом. Захромала, а потом и вовсе рухнула на дорогу. Ее ловко распрягли сидевшие на повозке солдаты и с досадливыми восклицаниями отволокли на обочину прямо напротив того места, где укрывался Крутицын. А спустя мгновение грохнул винтовочный выстрел.
Старшине хорошо было видно, как стал быстро тускнеть полный невыразимой печали лошадиный глаз, и лишь только дрожащая в уголке его слезинка еще поддерживала иллюзию жизни. Глянул на этот глаз Крутицын и тут же отвернулся, а потом все время старался не смотреть в сторону мертвой лошади. Но память все равно сфотографировала, запечатлела в сознании этот эпизод, и теперь он снова и снова невольно прокручивался в голове…
Сергей Евграфович любил лошадей, и оттого не мог равнодушно смотреть на их страдания и смерть. Однажды даже прочитал подсунутое Машей стихотворение какого-то революционного поэта, коих на дух не переносил, помнится, только из-за одного названия: «О хорошем отношении к лошади». Вначале, правда, резануло революционно-рубящее: «Гриб, Грабь, Гроб, Груб», но потом так проникновенно, до сердечного спазма было написано про лошадиные глаза, про слезы-каплища, что поручик, изменив своему обыкновению, дочитал стихотворение до конца.
«Надо же? Оказывается, и голоштанные горлопаны могут писать хорошие вещи, — подумал он тогда и глянул на обложку — Владимир Маяковский. — Все мы немного лошади. Хорошо, однако. И про „каплища“ — тоже хорошо…»
Эти «каплища» в лошадиных глазах повидал Крутицын за свой век немало. Тысячи мертвых лошадей, со вздувшимися животами и навеки запечатленной болью на оскалившихся мордах, устилали обочины фронтовых дорог. Для лошадей ведь госпиталей не придумано: ранена — получай пулю в голову, чтобы больше не мучилась, сердешная, не изводила человеческую душу своим криком-стоном…
Любил Крутицын лошадей, и лошади его тоже любили, как любил славной памяти жеребец Каррубо, в 1916 году спасший Сергея Евграфовича от австрийского пулемета. Очередь, что должна была ударить поручика аккурат поперек груди, принял на себя его вставший на дыбы конь. Принял и тут же грохнулся замертво, придавив запутавшегося ногой в стремени хозяина. От удара о землю лишился тот чувств и только под вечер был подобран полковыми санитарами…
Крутицын не заметил, как пролетело время его дежурства, и когда сонно трущий глаза Брестский тронул его за плечо, с удивлением глянул на часы.
Под утро ветер стих, но заморосил мелкий, противный дождь. Дорога, к которой разведчики снова вернулись, вся оказалась усыпанной поломанными ветками, а поперек, недалеко от места вчерашней засады, лежало здоровенное дерево.
Впрочем, загораживало оно проезд недолго. С первого же остановившегося у завала грузовика споро попрыгали солдаты и на айн-цвай-драй отволокли дерево в сторону.
В тот момент, когда грузовик снова тронулся, Чибисов и Крутицын переглянулись. Идея изобразить команду по расчистке завалов пришла им в головы почти одновременно. Правда, вначале разведчикам пришлось убедиться, что втроем им по силам вернуть на дорогу упавшее дерево. Попробовали. Краснея от натуги, с полузадушенными от напряжения восклицаниями Брестского, типа «эй, навались, славяне», но все-таки смогли.
И понеслось. Теперь уже не таясь, благо облачены были в немецкую форму, они мокли под дождем прямо на середине дороги, то убирая под веселые подбадривающие крики проезжающих, то снова возвращая на прежнее место скользкий, пачкающий руки тяжеленный ствол, терпеливо ожидая удобного случая. Хотя Брестский все-таки не преминул заметить угрюмо молчащим товарищам, что ежели так будет продолжаться целый день, то его точно не хватит.
Удобный случай представился примерно часа через три, когда к завалу вдруг подкатила черная штабная машина, и на дороге — вот он, долгожданный миг! — ни впереди, ни сзади никого. А машина, надо отметить, была шикарная. Над черными волнами крыльев царствовали две запрятанные в хромовые сферы фары, а под длинным лакированным капотом по мягкому, едва различимому рокоту угадывался надежный и мощный двигатель. Нервно вскидывались и снова опадали куда-то вниз «дворники», упрямо счищая с лобового стекла быстрые штришки дождя. И при каждом новом взмахе становились видны два силуэта сидевших внутри машины людей. Один, к вящей радости тут же забывших про дождь и про тяжеленное бревно разведчиков, явно принадлежал офицеру, о чем свидетельствовала его щеголеватая, хорошо различимая сквозь стекло фуражка с высокой тульей. «Господи, сделай так, чтобы минут пять на дороге никто больше не появлялся!» — молил облаченный в форму фельдфебеля старшина, не сводя с этой тульи глаз и все пытаясь прикусить несуществующий ус.