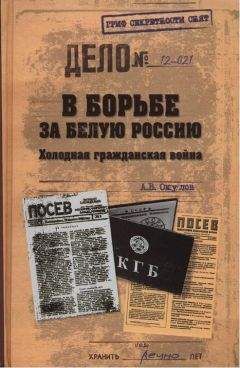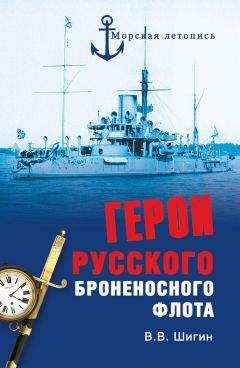Владимир Ходанович - Блокадные будни одного района Ленинграда
Историк ответил следующее:
«В закрытом магазине находился спецраспределитель, который работал и осенью 1941 г., и в первую блокадную зиму, и вообще до конца войны. <…> Никто с улицы этот магазин не видел: о его существовании обычные граждане даже не знали. Это был секретный распределитель. <…> Тем же, кто не был прикреплен к спецраспределителю, но получал единовременную поддержку, спецпайки по решению Продкомиссии нарочный доставлял на дом».
Все так, но есть возможность добавить и уточнить, кто же были эти нарочные и кому – в том числе – предназначалась пайки.
В архивном деле «разной переписки», среди сопроводительных и прочих бумаг о гвоздях и банных принадлежностях, сохранилась копия, с исходящим номером, доверенности от 5 ноября 1942 г., гриф «Особо секретно»: «Настоящим доверяется Секретарю Ленинского РК ВКП/б/ тов. ГРИГОРЬЕВУ А.М. получить подарки в колич. 13 шт. для старых большевиков из маг. № 1 Гостронома»[581].
Известным в то время старым большевиком бывшей Нарвской заставы был человек, который неоднократно упоминается в 12-й главе – это 50-летний Федор Андреевич Лемешев, директор Ленинградской суконной фабрики на Гутуевском острове.
Родился он на окраине Петербурга, в Волынкиной деревне. С 1903 г. на протяжении одиннадцати лет работал прядильщиком, в годы Первой мировой войны – слесарем на Путиловском заводе. 2 января 1917 г. арестован на заседании петроградской ячейки социал-демократической партии (большевиков), вышел на свободу на пятый день Февральской революции. Красногвардеец-путиловец, с 1919 г. – на партийно-политической работе в Красной Армии. В 1929 г. – директор ткацкой фабрики «Равенство». С трудом прошел «чистку в партии» 1932 г. В том же году стал членом Ленинградского отделения Всесоюзного общества старых большевиков, где пребывал вплоть до ликвидации этого общества (через три года). Будучи в составе историко-партийной комиссии при райкоме, собирал материалы по истории Нарвской заставы к 15-летию Октябрьской революции.
В 1933 г. окончил ленинградский филиал Всесоюзной промышленной академии и вскоре стал директором фабрики «Веретено». С января 1937 г. – директор Ленинградской суконной фабрики[582].
Не так давно в одной из газетных статей встретилось: «Между тем в неисследованных документах встречаются очень интересные факты, порой раскрывающие совершенно не известные нам стороны блокады»[583].
Подтверждаю.
Читаем архивный документ: «Список ответственных работников, направляемых в Дом Отдыха 20 августа 1942 г…». Отдохнуть отправились: инструктор агитпункта и два заведующих отделами Кировского райкома ВКП(б), «представитель» горкома, секретарь парткома и партбюро двух заводов и районный прокурор[584].
…Тем временем к середине лета 1942 г. по районам сократилось количество продовольственных и промтоварных магазинов. В районе вокруг парка имени 1 Мая торговая сеть, «остающаяся после сокращения» на 15 июля 1942 г., была представлена двумя «смешанными» магазинами (Нарвский пр., 2 и 9), одним хлебобулочным (Нарвский пр., 29) и одной керосиновой лавкой на проспекте Газа, дом № 35[585].
«У мамы в июне месяце [1942 г.] здоровье улучшилось, она смогла пойти работать. Ей назначили пенсию третьей группы инвалидности, и через артель „Интрудобслуживание“ она устроилась работать туалетчицей при „Кировском универмаге“. Из столовой при универмаге приносила оставшуюся пищу, собирала ее с тарелок, это была дополнительная поддержка в питании»[586].
В феврале 1942 г. в городе стали создавать, точнее, воссоздавать санитарно-бытовые комиссии. Они появились еще в начале войны, но в августе 1941 г. их реорганизовали в санитарные посты Общества Красного Креста[587].
Появилась, например, такая комиссия при домохозяйстве № 1 Кировского района (пр. Газа, 52 и 54). По воспоминаниям главы домохозяйства, «сколотили актив, пошли по квартирам, смотрим, женщины больные лежат, дети лежат. Стали помогать больным, получать обед по карточкам, приносить им. Ходили к врачу, вызывали врачей, доставали лекарство, помогали, чем могли»[588].
Членами санитарных отрядов также обследовались дома, выявлялись больные острыми желудочно-кишечными и чесоточными заболеваниями.
17 февраля 1942 г. райисполком утвердил персональный состав санитарно-бытовых комиссий домохозяйств по Нарвскому проспекту и Сутугиной улице, а 1 марта – по Березовому острову[589]. Комиссии, кроме председателя, состояли из 3–4 человек.
* * *«Зимой 1942 года мама сказала:
– У нас на заводе литературный вечер, пойдешь?
– Конечно, пойду, – ответил я.
Впечатления начались, как только мы вышли из дома. Тропинка до „Красного треугольника“ шла между высочайшими сугробами, стояла полная луна, все было залито синим светом, как будто были включены синие лампочки времен финской войны. Дорога была не длинной.
Вечер проходил в помещении красного уголка. Там собрались 25–30 женщин неопределенного возраста с голодными лицами. Выступали две поэтессы, но какие!
Это были Ольга Берггольц и Вера Инбер. Берггольц мне показалась очень красивой, с огромной шапкой вьющихся волос. Каково же было мое изумление, когда в сборнике „50 лучших советских поэтов“[590] я увидел ее портрет с гладкой прической. Она читала стихи, ставшие уже классикой. „Письма на Каму“[591] и „Разговор с соседкой Дарьей Власьевной“.
После нее Инбер читала „Пулковский меридиан“: то, что было написано к тому времени. <…> Поэма печаталась в „Ленинградской правде“ по мере ее написания, с октября 1941 до ноября 1943 года. Тогда она закончила на третьей главе[592]. Вторая глава была самая сильная – „Свет и тепло“. Конечно, там было обо всем: и что нет света, воды, молчит радио, нет тепла и, главное, о голоде, но все было пропитано оптимизмом и верой в Победу.
Следующий литературный вечер произвел на меня еще большее впечатление. Выступали два поэта и прозаик. „Классик“, просто поэт и Иван Кратт[593].
Сердобольная память не сохранила фамилии „классика“. Говорю так, так как я не воспринял его ни как ленинградца, ни как поэта. Начнем с его полноты, это не была полнота опухшего дистрофика или цинготника, это не была полнота А.А. Жданова с серым лицом и больными почками. Это была полнота откормленного кабанчика. Стихи были под стать:
„Бей гранатой, пулей бей,
Бей чем хочешь, но убей“.
Но скажите, зачем трем десяткам блокадных женщин, видавшим такое, что „кабанчику“ не могло привидеться в самом жутком кошмаре, слышать призыв, что кого-то надо убивать. Он ведь считал себя человеком искусства и, значит, должен чувствовать слушателя. <…>
Поэтом оказался Илья Авраменко! Он прочел поэму, с моей точки зрения не самое крепкое его произведение. Девять красноармейцев держали окоп. Рефреном было: „Солнце, выйди над полем, поднимись, освети невеселое поле и окоп девяти“[594]. Строго говоря, это был газетный очерк, как девять красноармейцев держали позицию против превосходящих сил противника, только рассказанный стихами.
Прозаиком был Иван Кратт. Он читал рассказ „Дикие скалы Отчизны“»[595].
Ленинский райком ВКП(б). «В начале 1942 г. мы стали проводить активы по отраслям промышленности – резиновой, текстильной, машиностроительной. Мы просили Горком разрешения дать концертное отделение.
Это подбодрило, хотя выглядело очень трагично. Артисты стояли на сцене, а костюмы на них болтались как палки»[596].
Что это было? Неизбывная «партийная традиция» завершать активы-совещания-пленумы концертом художественной самодеятельности? Или «подбодрить» воспоминаниями о мирном, довоенном времени? А каково артистам было добираться в мороз пешком (в ином случае непременно присутствовала бы фраза: «Для актеров райком организовал автотранспорт»), выступить и также пешком разойтись обратно, по домам?..
15 мая 1942 г. Исполком распорядился «Об изменении прейскуранта цен парикмахерских». С этого дня «бритье головы без стрижки» стало 1 руб. 50 коп., «бритье шеи при отсутствии других операций» и «поправка висков при бритье» – 30 коп., «мытье головы мужской» – 1 руб. 25 коп., завивка усов – 60 коп., маникюр – 2 руб. 50 коп. [597].
Но то – цены в денежном эквиваленте. В реальности же оплата услуг в парикмахерских (и в иных «точках обслуживания») была совсем в иной «валюте». А оттого – ни очередей, ни порой клиентов вообще.