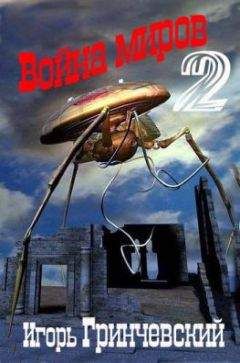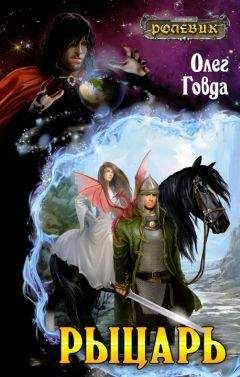Олег Смирнов - Неизбежность
— Охромеешь — хрен тебе цена!
Есть ли потертости, нет ли, а топать надо. Но и ножки беречь, конечно, надо. Вдруг вспоминаю об убитых японцах. Мы ушли, они остались лежать на карабинах, на пыльно-кровавой ржавчине. Подзасохшая. ржавая кровь — это знакомо. Будем обедать невдалеке от этих трупов. На западе такое соседство бывало и поближе. Под Оршей, под Осинстроем, например. В январе сорок четвертого, когда было наше наступление неудачное, захлебнувшееся. Сколько ни поднимались в атаку, немцы укладывали страшенным огнем. Нигде после я подобных потерь не видывал: труп на трупе. И обед мы хлебали из котелков, поставленных на закаменевшие, занесенные снегом трупы, которыми были забиты «нейтралка», окопы и траншеи. На этом наступлении, говорят, погорел наш командующий фронтом: перевели на другой фронт, начальником штаба. Уж слишком велики были потери… Здесь, на привале, обед мы получили, как под Оршей, первое и второе, суп и каша — вместе. Проще сказать: густой суп. Плюс тонюсенький ломтик консервированной колбасы, повертев который верный ординарец Драчев изрек:
— Через него видно матку боску!
Ну да, в Польше подцепил. Когда ломтик сыра или колбасы сверхтонкий, поляки говорят с неодобрением: через него видно матку боску, по-нашему — матерь божью.
Воды нам не привезли, но одна исходная кухня была с чаем, и каждому досталось по кружке. Матка боска, разве ж напьешься? Мы сперва выпили чай (выпили! Мазнули по губам — вот что это!), затем захлебалп супец. А ломтик колбаски с хлебом как бутерброд — на второе. На третье фига с маслом. Обычно на третье был чаек, сейчас он пошел на закуску. Закуска, десерт… да ну вас к черту, водички бы, чайку бы от пуза! Трушин уверяет, будто командир полка сказал, что вот-вот будут самолеты с водой.
Дай бог! Котелки мыть было нечем, и солдаты выскребали их ложками, протирали кусочками хлеба. Старшина Колбаковсшш поучал:
— Хоть вылизывайте! Но чтоб были чистые стенки. Иначе пристанет песок…
Солдаты отдыхают, а офицеры колготятся — это закон. Вскоре и за мной явился посыльный, увел к батальонному начальству.
Капитан информировал ротных: командир полка требует повышения бдительности, ибо японское командование оставляет у нас в тылу летучие отряды, рассредоточенные на мелкие группы; их задачи — шпионаж, диверсии, нападение на наши коммуникации, на отдельные гарнизоны и подразделения; эти летучие отряды — иногда численностью до четырех тысяч человек — сформированы из ярых самураев, отлично вооружены, имеют заранее подготовленные военно-продовольственные базы в глухой местности. Об этом командира полка информировал комдив, комдива — комкор, комкора — командарм. По этой же лесенке вниз было спущено и другое предупреждение: остерегайтесь смертников из частей спецназначения, их основная задача — уничтожение командного состава и боевой техники советских войск; действуя мелкими группами или в одиночку, смертники уничтожают офицеров и генералов холодным оружием из-за угла, тапки подрывают, бросаясь под них со связками гранат или с минами, часть смертников специально подготовлена для взрыва мостов на путях наступления наших войск.
Командир батальона чеканит: бдительность и бдительность! — и распускает ротных. Теперь я должен проинформировать взводных, а те — отделенных, а те — солдат. Нет, перешагнем несколько ступенек служебной лестницы: насчет летучих отрядов, смертников и бдительности говорю сразу всему личному составу роты.
Солдаты слушают с достаточной серьезностью. Вполне серьезен и я: наши враги не только жара, жажда и расстояния.
— Подготовиться к построению!
Выполнять команду солдаты, однако, не торопятся. Старшина Колбаковский в таких случаях говорит: "Не чухаются".
— Подготовиться к построению!
Полеживают, посматривают друг на друга: кто первый поднимется? На меня забывают посмотреть. Я рывком поднимаюсь и рявкаю:
— Вста-ать!
Подействовало. С позевыванием, кряхтением, ворчанием начали наматывать портянки, натягивать сапоги и ботинки, скатывать шинели, разбирать оружие. Ворчливей всех Егорша Свиридов;
— Построиться завсегда можно. Но ты спервоначалу напои по норме…
О норме запел! Сержант Черкасов — внушительно:
— Свиридов, кончай шаманить!
Словцо новое в нашем обиходе, солдаты заинтересованно поворачиваются к Черкасову, сам Свиридов на секунду замирает. А затем — с достоинством:
— Чего мне шаманить, сержант? Я не шаман…
— Кончай, кончай! Становись в строй!
Так или иначе выраженьице полюбилось враз. Через четверть часа на марше и я уже сказанул повздорившим — кто-то кого-то толкнул — бойцам:
— Кончайте шаманить!
Когда я спросил Трушина, где же обещанные самолеты с водой, он ответил:
— Кончай шаманить, Петро!
Ну, коль политработник употребляет это словечко, — узаконено!
— Воздух, воздух!
Задрали головы, но укрываться не бросились. Поскольку самолет наш. Здравствуй, долго жданный! Не кружи, не тарахти, садись. Посадочных площадок сколько угодно. Выбирай по вкусу и садись. А самолет, милый «У-2», разлюбезный «кукурузник», оттарахтев, опустился на равнинке, и от роты потребовали трех бойцов с термосами. Устали, измучены, но добровольцев — хоть отбавляй. Разумеют, хитрецы: там, где воду будут разливать по термосам, можно попользоваться на дармовщинку, на халяву. Короче — урвать сверх положенного!
Колбаковский выбрал настырных — Кулагина, Логачеева и Свиридова. Резвой трусцой они двинули к самолетику, словно боясь опоздать, словно воду раздадут и нашей роте не достанется. Вероятно, того же остерегались и полномочные представители других подразделений: не шли, а трусили рысцой.
Возвратились посланцы с термосами за спиной, мужественноскорбные: во-первых, как выяснилось, урвать сверх нормы не удалось, жмоты попались, а во-вторых, термосы были налиты лишь до половины — «кукурузник» привез мало воды. Подсчитали: по полкружки на брата. И за то спасибо, хозяева неба.
Воду выдавал Колбаковский. Выверенность его руки была поразительна: зачерпывает кружкой — ровно половина. Получай!
Следующий! Первую кружку Кондрат Петрович подал Трушину.
— Прошу, товарищ гвардии старший лейтенант!
Федор неспешно выпил, обтер губы. Колбаковский зачерпнул мне:
— Пейте на здоровье, товарищ лейтенант!
— Благодарю, Кондрат Петрович…
Я перелил воду в свою кружку, поднес ко рту. Тепловатая и солоноватая, вода показалась холодной и сладкой, как из родника. Стараясь не жадничать, выпил до капельки. И неожиданно крякнул. Старшина рассмеялся:
— Дюже понравилось? Добавки дать? Вторую порцию?
— Ты не шутишь, старшина? — спросил Трушин.
— Никак нет! Командиру роты и вам положено еще… И Петрову с Ивановым, так как лейтенанты… Офицерам положено!
И он протянул мне кружку. Я отстранил ее, сказал:
— Кондрат Петрович, оставь! Нормы действуют для всех, без исключения!
— Кончай шаманить, старшина! — резко сказал Трушин, и Колбаковский покраснел: бурая от солнца кожа еще сильней побурела. Он открыл рот, но ничего не ответил, махнул рукой, отвернулся.
Мне было нехорошо и от резкости Трушина, и от услужливости и обидчивости Колбаковского, и от собственной растерянности.
Чтобы преодолеть ее, сказал:
— Кондрат Петрович, если останется лишняя вода, наполните несколько фляжек. Ротный энзэ… Будем выдавать наиболее ослабевшим…
— Слушаюсь, — буркнул старшина.
— Продолжайте раздачу воды. Чтоб всем хватило!
— Слушаюсь…
После заминки, вызванной раздачей воды, шагать пришлось ходко. Обязаны поспешать: вкуспли водички. Хотя, если по-честоому, полкружки не притушили жажды, скорей разожгли ее. Ничего, когда-нибудь напьемся всласть. Степь, полупустыня, сопки и пади — на все четыре стороны. Чем дальше на юго-запад, тем круче сопки и глубже пади — в расщелинах темнее. Где-нибудь там могут скрываться группы из летучих отрядов, смертники из спецчастей? А почему бы и нет? Днем вряд ли рискнут высунуться, ночью — вполне. До ночи не так уж далеко.
На сопке опять кумирня, такую уже видели в Маньчжурии и такие видели в Монголии, одну — возле станции Баян-Тумэнь, от которой мы порядочно оттопали! Небо голубоватое, умиротворенное, самолетов никаких нет. Машин в степи стало поменьше. Впечатление: одна пехота остается, да и она вроде бы рассасывается, втягиваясь в распадки. Зной спал, дышится раскрепощенней, и потеем не столь обильно. Но усталость наваливается, пеленает руки-ноги. До привала, до ночевки доковыляем. «Ползем» и «ковыляем» — для красного словца. Идем мы нормально. Как положепо, если за плечами километров сорок, а то и пятьдесят. А?
Приличный отрезочек? И откуда выносливость, прямо-таки фантастическая?
В сгущавшихся сумерках добрались до места ночевки у подножия безымянной сопки. Ужина не было, и чая не было. С батальонной кухни нам дали немного воды, к ней я приплюсовал те несколько фляжек, что давеча наполнил Колбаковский. Воду делили под мопм непосредственным наблюдением: ослабевшим — поболе, крепким — помене, офицеры и старшина Колбаковский отнесены ко вторым. Пососав сухарик и запив водичкой, солдаты раскатывали шинели — и мертвецки засыпали. Воздух посвежел, и потное тело быстренько остывало. Ночью, пожалуй, просифонит. И мы с Трушиным, как бывало на фронте, улеглись спиной к спине: одну шинель под себя, второю укрылись. Да-а, прохладно… А что за жарплка была днем! Я сказал: как бывало на фронте. А сейчас разве не фронт? Называется: Забайкальский…