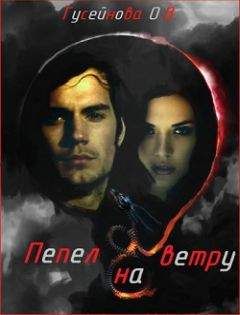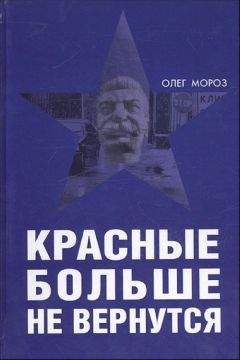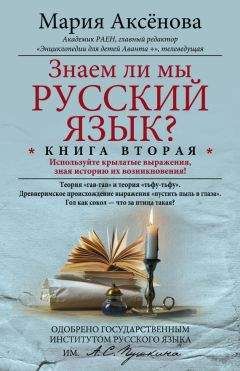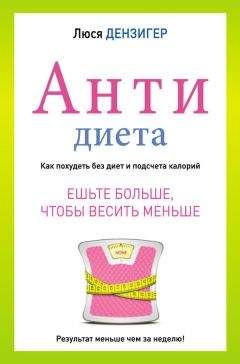Мария Костоглодова - Это было только вчера...
Дина не сразу отыскала Борьку. Он танцевал возле сцены с Людой Мансаровой, сероглазой девушкой, с коротко, как у мальчишки, подстриженными волосами. Борька как-то сказал Дине о Мансаровой: «Она десяти девчонок стоит».
Белая рука Люды лежала на белой, сшитой бабушкой, рубашке Бориса, он так старательно кружил Люду, так крепко держал ее за талию и так властно смотрел на нее, что Дине показалось неловким смотреть на них, и она ушла, не поговорив ни с Ирочкой, ни с Николаем Николаевичем.
Борька пришел домой под утро, едва раздевшись, уснул. Как Дина год назад, он ходил до рассвета с друзьями по городу, прощаясь с юностью, и говорил кому-то, может быть, Люде Мансаровой, а может, закадычному другу Араму, те особые слова, что не повторишь никому другому, ни в каком другом состоянии, и пел те единственные песни, которые никогда и нигде не будут звучать чище.
А через несколько часов началась война…
…Дверь приоткрылась. Дину окликнула санитарка Паня:
— Милка, там к твоему («твоим» назывался любой больной, у постели которого приходилось дежурить), девчонка приехала. Сказать дежурной сестре?
— Не нужно.
Дина спустилась вниз. В вестибюле сидела девушка, примерно Дининых лет, в коротком жакете и цветастом платочке.
— Здравствуй, Галя.
Девушка удивилась:
— Откуда знаете, что я Галя?
— Знаю. Ты к Шарапову. К нему нельзя.
— Он плохой?
— Да, тяжелый. Идем, устрою тебя.
Она отвела Галю в комнатушку, где выпускались госпитальные газеты. Здесь стояла кушетка.
— Ты как думаешь, — пытала Дину Галя, — мне разрешат возле него? Я куда хочешь дойду. Я добьюсь. Я его выхожу. Нам все равно — с руками он или без них. Нам главное, чтобы живой он был.
Маленького роста, щупленькая, с толстой, до пояса, косой Галя стояла в воинственной позе посреди комнаты, и у Дины не оставалось ни тени сомнения: она выходит Шарапова.
— Ты ему кто? — спросила Дина. — Невеста?
Галя махнула рукой:
— Какая там невеста! Сестра я ему. Мы близнята. Мы, знаешь, как дружили? Девчонка с девчонкой не всегда так… Мать говорила: «Я на детей счастливая». — И вдруг испуганно: — А может, лучше не признаваться, что сестра? Сестру не допустят?
Дина обняла ее:
— Допустят, будь покойна. Ляг, поспи. Эту ночь я возле него.
Галя ухватила Динину руку:
— Ой, ягодка, уж пригляди за ним получше. Отблагодарю тебя. — И тут же стала подталкивать Дину: — Иди, иди. Нечего со мной здесь. Я в тамбуре нахолодалась, ветер прямо сквозь меня проходил. Залезу сейчас под одеяло, и нет меня. Иди к нему, иди.
Шарапов тяжело дышал, глаза его были прикрыты. Дина со страхом прислушивалась к его дыханию: что, если умрет? Галя там спит, а он тут умрет. «Не доглядела, не уберегла», — скажет Галя.
— Тамара Алексеевна, — позвала она дежурную сестру. — Шарапову плохо. Скорее.
Но сестра нашла, что Шарапову совсем не плохо, он после укола задремал, не нужно его тревожить.
«Только бы выжил, только бы выжил!» — повторяла Дина, борясь с одолевавшей ее дремотой. И все же она уснула.
Ей приснилось, что вместо нее в пятой палате читает теперь Галя Шарапова, а ее брат Даня жив-здоров, с руками, кричит весело: «Ай-ай-ай, ищешь художника, а я рисую». Тут же топчется Толстой-не-Лев, почему-то ударяет в ладоши и тоже кричит: «Ай-ай-ай». Хлопают двери. Кто-то вскрикивает.
Дина открывает глаза.
У кровати Сулхана Бригвадзе толпятся люди. Она слышит, как дежурная сестра тихо произносит: «Смерть наступила во сне. Час назад я заходила. Он ровно дышал».
Дина вскакивает. Какая смерть? Только она подавала ему судно, он нахваливал свой город Мцхет, обещал повезти в гости… Нет, он говорил: «Душа горит, дышать трудно». Она не обратила внимания. А он уже привык к тому, что ему трудно, и не хотел никого беспокоить. Почему она уснула? Как она посмела уснуть?
Мечется в жару Шарапов:
— Пить!
Дина хватает с тумбочки поильник, расплескивает воду.
4Идет война народная,
Священная война.
Под эту песню нельзя было обычно идти, обычно думать. Она требовала отрешенности от всего мелкого, наносного, пустячного.
Среди шагавших в колонне солдат Дина заметила Шурку Бурцева. Стриженный, без своего знаменитого чуба, в длинной, не по нем, шинели, он казался тенью прежнего Шурки. Глаза смотрят строго, в лице сосредоточенность. Дина не видела Шурку с тех пор, как его перевели в другую школу. Он как бы сгинул, провалился в тартарары, исчез. Его вычеркнули из жизни не только она и Лялька, но и дружки — Алик Рудный, Мусечка Лапина. Как он жил, отторгнутый от всех Шурка? О чем думал?
— Бурцев! — крикнула Дина, поддаваясь внутреннему сердечному толчку, и побежала к нему, расталкивая остановившихся поглазеть на идущих новобранцев зевак.
Взгляд Шурки заметался, отыскивая того, кто крикнул.
— Шурка, здравствуй. Это я. Счастливо тебе. Возвращайся живым-здоровым.
Она ухватила его руку, неловко потрясла.
Шурка растерянно улыбнулся, кивком головы поблагодарил за пожелание. Дине почудилось, что на глаза его навернулись слезы.
— Шурка, мы про то забыли. Мало чего не сделаешь сдуру. Ты только никогда больше…
Она крупно шагала рядом, держась за рукав его шинели, говоря бессвязно от быстрого бега, от жалости к уходящему в неизвестное Бурцеву, от требования песни: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна», от чего-то еще, что подпирало к горлу, сдавливало его, мешало сосредоточиться. Шурка молча кивал, охваченный тем же, как у Дины, волнением, стараясь не потерять шаг, не опустить головы, вскинутой, как во время клятвы, перед песней. На повороте дороги, чувствуя, что Дина сейчас остановится, он сказал отрывисто, спеша:
— Ляльке передай… Я не прощаю себе… И поцелуй ее. Да. Поцелуй непременно.
— Ладно. До свиданья, Шурка!
Песня ширилась, росла. Уже не было низко опустившегося над землей серого неба, и полуголых деревьев, и заклеенных крест-накрест стекол домов, не было самой земли, прихваченной первыми утренними заморозками, была одна песня — властно зовущая на подвиг, был уходивший Шурка Бурцев — бритый, без намека на прежнюю ироничность, без своего сногсшибательного чуба, со скорбными складками у рта.
5Лялька до сих пор не могла привыкнуть к тому, что она жена.
— Миш, тебе не страшно от слова «муж», а? Ты — муж. А мне страшно. Я — жена.
Чувствуя себя бесконечно богатой, Лялька стремилась одаривать богатством других. В редакции она предлагала уставшей машинистке: «Отдохните, я за вас попечатаю». Дома хваталась за любую работу, помогая тете Сане, была внимательна к матери, отцу. Стихи выливались из нее, как родниковая вода из открытого источника.
Ты мне дорог, как ласточке дом,
Как медведю его берлога, —
писала она утром. А вечером:
Люблю. Люблю и не скрываю,
Ты видишь сам: горю в огне…
Ночами она тревожно спрашивала:
— Мишук, вас еще не скоро отправят? (Мишка учился в мореходном училище).
Он знал, что скоро, но ей говорил, перефразируя Маяковского:
— У меня с тобой в запасе вечность.
Любовь делала Ляльку безрассудной.
— Миша, — просила она, пересекая с ним людный Таганрогский проспект, — поцелуй меня.
— Здесь? На улице?
— Здесь. На улице.
— Ляля, что у нас — дома нет?
— Хочу здесь.
— Ляленька, не дури.
— Миша!
— Лялюха!
Он не поцеловал ее, и Лялька пообещала:
— Я тебе это припомню.
Как-то Дина поразилась, увидев быстро вбегавшую в госпиталь Ляльку с ярко накрашенными губами.
— Дина, можешь ненадолго выйти со мной?
— Срочно?
— Абсолютно.
На улице Лялька предупредила:
— Идем к тому ларьку. Видишь там Мишку? Помни: что бы я ни сделала, ничему не удивляйся. Смотри и все.
— Какого шута губы накрасила такой ядовитой краской? — поинтересовалась Дина.
— Говорю: смотри и не удивляйся. Я ему позвонила, чтобы ждал.
Бугаев с нетерпением оглядывался, поджидая Ляльку. «Ну и каланча!» — в который раз удивилась Дина.
Лялька поспешно пересекла дорогу, кинулась к Мишке:
— Боже мой, жив! Мишенька, родной, ты жив.
Она исступленно целовала одуревшего от неожиданности Бугаева, оставляя на его губах, носу, подбородке ядовитые следы краски.
Останавливались прохожие, качали головами. Женщины плакали. Одна, пожилая, подошла, облобызала Мишку и Ляльку, проговорила, вытирая мокрые глаза:
— Да хранит вас бог, деточки!
Дина, ничего не понимая, смотрела на устроенный Лялькой спектакль.
Почти вися на руке Бугаева, Лялька увела его за угол. Туда же за ними пошла и Дина.
— Будешь меня целовать, когда прошу, оклохома несчастная? — негромко спрашивала Лялька. — Даже если на улице, будешь?