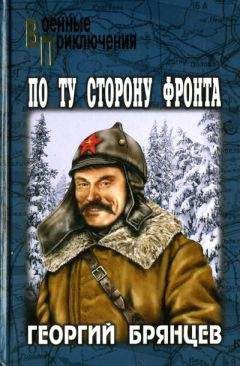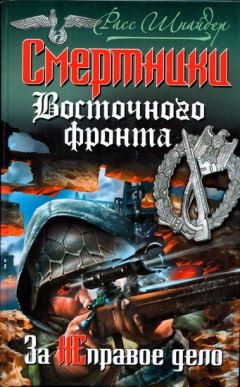Северина Шмаглевская - Невиновные в Нюрнберге
— Уважаемый Трибунал! Пан прокурор!
Даже если все это сон, я все равно уверена, что давным-давно прошло рождество. И Новый год прошел. И крещение. Хозяин антикварной лавки, видно, болен, раз забыл о выставленном в витрине старике, который каждые несколько минут качает головой.
— Безусловно, пан прокурор, я знаком с предметом. Я в состоянии ответить на все ваши вопросы.
Рождественский дед замер, бессмысленно уставился на съежившегося у витрины человека. Видно, у механизма кончился новогодний завод. Но нет, голова снова с достоинством качнулась, белая борода от движения сползла на грудь. Мужчина оживился, снова заговорил.
— Я присвоил себе эти знания, вероятно, уже навсегда. Хотя, по-видимому, никому из нас не под силу охватить целиком всю проблему. Если вы, пан прокурор, не возражаете, я скажу, разумеется очень кратко…
Где-то далеко проехал трамвай. Человек замер, хотел оглянуться, но тут его птичье лицо окрасила улыбка, выражение смягчилось. Он продолжал:
— Неужели вы считаете, пан прокурор, что мы, свидетели, сможем передать это словами, одними только словами? Дать показания? Доказать? Ни один нормальный человек все равно не сможет в это поверить.
Я узнала Оравию. Он ждал, пока антикварная кукла одобрительно кивнет — вероятно, ему нужно было это, чтобы продолжать. Я закашлялась. Доктор тут же обернулся, его гибкие пальцы беспокойно задвигались.
— Что за встреча в этой пустыне! А я вот брожу по улицам и размышляю. — Он протянул мне навстречу руки.
Странный человек, этот доктор Оравия: всегда экзальтированный, сегодня он был особенно возбужден.
— Я репетирую перед дачей показаний, — с улыбкой сказал он непринужденно. — Посмотрите, какая у меня аудитория! Мне поддакивает этот старый добродушный рождественский дед с электрическим механизмом внутри. Ведь каждый оратор нуждается в одобрении, не правда ли?
Я промолчала.
— Вы подумайте, ведь именно сейчас необходимо заставить немцев восстановить развалины Парижа, Варшавы, Роттердама, осушить затопленные земли Голландии, надо бить по их карману, чтобы каждый из недавних партайгеноссе усвоил и внушил своим детям, внукам, правнукам, что война не приносит благополучия. Я уверен, так оно и будет. Они разработали свои планы еще во время оккупации. Планы перевоспитания всего народа.
Наступила тишина. Оравия покачал головой. На фоне витрины, где рождественский дед медленно и с достоинством делал аналогичные движения, это выглядело удивительно забавно, словно они заранее сговорились.
— Я хотел бы ошибиться. Но думаю, что есть такие бациллы, которые исчезают на много лет, даже надолго, но не гибнут. Я имею в виду бациллы войны. В отдельных точках Европы они размножаются с особым упорством.
Борода рождественского деда, выражая полнейшую солидарность, подскочила кверху и снова опустилась.
— Я доктор философии. — Оравия говорил быстро, словно обращаясь к самому себе. — Когда-то обожал хорошую музыку, Баха, Моцарта, особенно Моцарта. — Он замолчал, развел руками. — Потом в течение всей войны меня считали загнанным зверем, которого каждый может убить, пнуть, отправить в концлагерь. Неужели здесь, в Нюрнберге, я буду рассказывать о том, как постепенно терял зрение, прячась на протяжении трех лет в темном подвале, а потом на чердаке? Я не буду говорить об этом. У меня к этому научный подход, мне хочется обсудить целый ряд обдуманных мною проблем. С научной точки зрения война — это своего рода людоедство.
Он нервно поправил очки, потом снял их, принялся энергично протирать. Было тихо, рождественский дед дружески кивал головой.
— Неужели я должен рассказывать о том, как утратил веру в общественный порядок, в человека, во всех немцев?
Рождественский дед утвердительно кивнул.
— Мне хочется понять психологию эсэсовцев и эсэсовок. Их матери, отцы, их народ одобрял их деятельность? Как одобрял — пассивно или активно? Что это было: эйфория ложно понятого патриотизма, слишком далеко простиравшаяся вера во все, что делает фюрер? Но эти проблемы не раскрыть за те несколько минут, которые отводятся для дачи показаний.
— Если судить по реакции рождественского деда, — шутливо, чтобы разрядить атмосферу, сказала я, — вы должны все это высказать Трибуналу.
Доктор махнул рукой.
— Хозяин этой антикварной лавки просто транжир. Может, сумасшедший. Хотя, возможно, он умер, не успев отключить механизм, и потому этот дед, наверное, уже более шести недель без толку кивает головой.
Я вглядываюсь внутрь витрины, чего там только нет: лампы всевозможных форм, медные тазы, гравюры, ковши, национальные костюмы с богатой вышивкой…
— Пойдемте? — спросил вдруг доктор Оравия. — Я ужасно промерз и с удовольствием окунусь в тепло нашей гостиницы. А вы? Вы видели эту лавку раньше? Нет? Я тут был уже в день нашего приезда.
— То есть вчера?
— Да, вчера. Хотя мне казалось, что мы здесь уже давно. Вчера, в воскресенье, лавка была наглухо закрыта. Это понятно. Но сегодня? Я пытался поймать антиквара во время обеденного перерыва. Тут должно быть написано, в котором часу он ее открывает. А что вас интересует из этого старья?
— Я с удовольствием полистала бы репродукции Дюрера. Они наверняка здесь есть.
Доктор Оравия вскинул тощие руки. Он размахивал ими так, словно хотел разогнать крутящийся снег.
— Репродукции?! Дитя! Наивное дитя! Тут могут быть оригиналы. Да-да! Оригиналы! Такие антиквары скупают все за гроши. Мы можем найти тут шедевры! Чудеса! И, возможно, даже недорого. — Он пошел вперед, приостановился, еще раз обернулся. — Загляну сюда завтра, после дачи показаний. Может, мне удастся поймать хозяина.
«Гранд-отель» встречает нас теплом и ароматами. И своим обычным настроением. Особая тональность голосов волнует, будоражит, вызывает печаль и надежду. В ней слышится шум бала, когда вот-вот вырвутся на волю звуки оркестра, радость охочих до танца людей. Меня это убивает. Я не могу ничего понять. Пытаюсь разобраться в этом огромном солдатском бивуаке, который гудит, живет, растет, шумит и ликует.
Когда я подходила к своему номеру, меня остановил звук гонга. Поддаваясь непонятному велению, я оставила пальто в комнате и спустилась вниз, где что-то должно было происходить.
Доктор Оравия стоял в коридоре и моргал.
— Что они поют? Вы узнаете мелодию? Нет? Минуточку, ну да, точно, опять тот же припев: «Beethoven’s land, such а beautiful land!»[49] Я уже слышал это вчера.
Он поднял руку и, размахивая ею, продолжал говорить в одном ритме с певицей:
— Сентиментальные слова! С удовольствием бы послушал, но тороплюсь к себе. Должен записать все, пока не забыл. Хотя бы набросаю план. После этой прогулки я чувствую себя бодрее и свои показания полностью продумал. Но слова могут затеряться, и я не смогу вспомнить те формулировки, которые у меня сложились в голове.
— Тогда до встречи.
— До встречи. Примерно через час я спущусь. Это не займет много времени.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Я сидела внизу, в холле, с болью в сердце наблюдая, как приходит в себя после многочасовых напряженных заседаний Международный трибунал.
Меня позвали. Я постепенно отдалялась от шума, от бури, от музыкального шторма. Все тише отбивал ритм ударник, тут было спокойно, и меня кто-то ждал. Вежливый гостиничный посыльный шел впереди меня, отворял двери, сторонясь, уступал дорогу. Мы шли по лабиринту первого этажа, в темноте, где только изредка встречались тускло горящие лампочки, мимо больших и малых залов до самого бара, за которым находилась маленькая комнатка, где обычно подавали завтрак.
За столиком, сгорбившись, сидит мужчина. Он низко наклонился, головы почти не видно, он то и дело судорожно сжимает ее руками.
— Это вы меня звали?
Он встал. Едва я взглянула на его серое, мятое лицо, как что-то шевельнулось в памяти. Где я видела этого человека? Только когда он заговорил хриплым низким голосом, я сразу вспомнила.
— Вы меня не узнаете?
— Отчего же? Пан Влодек. Из Освенцима.
Он улыбнулся и вздохнул. На лице его скорбное отчаяние.
— Иногда я приезжал в ваш лагерь за обувью.
— Да, я хорошо помню тот день, когда вы вошли к нам в барак. Это был декабрь сорок второго, да?
Он еще ниже наклонил голову, сжал ладони. Надо спросить его о Томаше, он должен знать его, может быть, они ехали в одном эшелоне, отправляемом неизвестно куда.
— Пан Влодек…
Он вздрогнул, его черные глаза смотрели с дикой злобой, а быть может, отчаянием. И тут я наконец-то узнала его. Мы сели друг против друга.
— Мы виделись вчера в пресс-центре, но в форме лесничего я вас не узнала, только сейчас вспомнила, кто вы.
Он не слышал моих слов.
— А я помню тот день, с него начались все мои несчастья, — глухо заговорил он.