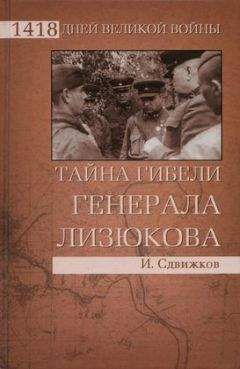Василий Козлов - Верен до конца
— Неласково встречаете, — сказал я хозяевам. — Надоели такие «гости»? А мне вот Самуил Борисович, — кивнул я на Плоткина, — тоже говорил: «Ох, как надоело мне по хуторам ходить». Да нельзя не ходить: государственные интересы велят.
Снова нам никто не ответил. Не предложили сесть.
— Это партийный секретарь из Червеня, — представил меня Плоткин. — Пришел с вами поговорить.
Лишь после этого хозяин угрюмо встал, принес из горницы табуретку и молча поставил ее передо мной.
— Спасибо, — сказал я, — я и на лавку присяду.
Огляделся с любопытством. Обыкновенная хата. Нары, скобленый стол. Из красного угла смотрит темный лик иконы. На окнах пожелтевшие бумажные узорчатые занавесочки. В открытую дверь видна горница, фикус в щербатом чугуне. К бревенчатой стене приклеена какая-то выцветшая картинка. Ближе к печи, на длинном почерневшем шесте висит заношенная одежонка, которую в народе метко называют «рыззе» — лохмотья.
— Что ж не хотите переезжать в деревню, Андрей Михайлович? — спросил я хозяина.
Он отложил часы, закурил, и было непонятно, собирается ли вступать в разговор или нет. Старуха сердито оглянулась на меня и еще проворнее заворочала рогачом в печи.
— Правительство идет вам навстречу: кредит дает, лес. Вам специальная бригада поможет разобрать дом, сарай, выделят транспорт, чтобы перевезти все на новое место. В деревне вы даже получите возможность построить хату побольше… Чего уперлись?
— Нам и тут добра[1], — вдруг от печи резким голосом отозвалась старуха. — Отцы наши этот хутор ставили, тут их могилки, и мы отсюдова никуда не поедем. Вот и весь разговор.
И опять ожесточенно загремела рогачом. Сразу чувствовалось, что вся семья в руках у этой властной старухи. Сорокалетний же Андрей Чепурко ни в чем не прекословил ей. Я попытался было втянуть его в разговор; отвечал он вяло, односложно:
— Никуда не поедем. Нет нашего согласия. Что хотите, то и делайте.
На крыльце послышались шаги, и в хату вошел парень лет восемнадцати в рубахе-косоворотке, в коричневых парусиновых туфлях с кожаным носком. Не надо было к нему долго приглядываться, чтобы понять, что это сын хозяина: такой же нос с горбинкой, чуть оттопыренные уши, крупные руки. Только взгляд открытый и любознательный да волосы посветлее.
Парень оглядел нас, вежливо поздоровался.
— Это вам тут добра, мамаша, — ответил я старухе. — Молодежь не к могилкам привязана, а к жизни. У них все впереди.
— Детям неохота жить в лесу, молиться колесу, — поддержал меня Плоткин. — В селе же клуб есть, школа, там кино показывают, читают интересные лекции, доклады, танцы бывают. Там вам не придется сидеть вечерами с керосиновой лампенкой: электричество и радио будут осенью проводить. Рядом лавка кооперативная, можно купить что надо.
— Деды наши обходились без кино, и мы проживем, — отрезала старуха.
Очевидно, парень сразу понял, по какому делу мы пришли. Он напряженно прислушивался к нашему разговору.
— Вы-то проживете, — вдруг сказал он запальчиво бабке, — а мне неинтересно! Мы на этом хуторе… как медведи в берлоге. Соседи давно переехали, а мы все сидим. Мне на товарищей смотреть стыдно, хоть на комсомольское собрание не ходи. Смеются. «Вы, — говорят, — в предрассудках погрязли».
Сразу было видно, что спор здесь поднимался не однажды. Парень говорил горячо. Старуха метнула разгневанный взгляд на Чепурко. Хозяин кашлянул, сурово остановил сына:
— Помолчи, Петро, когда старшие говорят. Без тебя разберемся.
И, обращаясь ко мне, твердо сказал:
— Не с руки нам, товарищ, с хутора переезжать. Тут обжитое хозяйство, все привычное. Каждый кол в заборе своими руками поставлен. Зачем нам менять милое на постылое? И отсюда можем в колхоз на работу ходить.
— Обутки не напасетесь, — возразил Плоткин.
Старуха стукнула держаком рогача об пол:
— Хоть хату разоряйте, никуда отсюда не уйду! Тут родилась, тут пускай и похоронят.
— Ну и живите сами! — воскликнул парень. — А я уйду от вас. Я комбайнером хочу стать. Устроюсь в деревне жить.
— Напрасно горячитесь, мамаша, — сказал я старухе, — Жизнь идет, и ее не остановить. Мой покойный дед, как и ваш, лапти носил, был неграмотный, бурлачил на Днепре, а я вот комвуз кончил. Старшая дочка моя, школьница, уже об университете мечтает. А почему бы и вашим внукам туда не поступить? Дорога каждому открыта, перед Советской властью все равны. Думаете, удержите молодежь в этом темном углу?
— Вы разве не рабочий? — вдруг спросил меня хозяин.
— Рабочий. Но родился я в деревне. А жизнь заставила и бросил свой двор, работал ремонтником на железной дороге, слесарил в депо, учился… А вам, товарищи, придется все-таки отсюда уйти: заявляю это ответственно. Все земли вокруг колхоз запашет, и вам ни проходу, ни проезду, все равно будете вынуждены переселиться. Только тогда уже землю под усадьбу получите не на выбор, а где останется, и не дадут вам транспорт, и плотники не помогут собрать дом. Лучше соглашайтесь.
Мы с Плоткиным встали.
— Подумай еще хорошенько, Андрей Михайлович, — сказал я на прощанье. — И не пропусти удобный момент. А то как бы не пожалеть.
Впоследствии мне рассказали, что Андрей Чепурко еще с неделю упирался, а потом все-таки переехал в деревню. То ли победил здравый смысл, то ли сын настоял. Не знаю. За сутолокой дел некогда было заехать к нему на новоселье…
Хоть мы и запоздали с сселением хуторов, до уборки не уложились, но к осени в основном кампанию закончили.
На всю жизнь запомнилась мне та уборочная…
Хлеба мы стремились убрать своевременно, без больших потерь. Для этого ускорили ремонт тракторов, сельхозинвентаря. Жалели, что молотилок марки «МК-1100» маловато, очень они нас выручали. А зерно надо было сдавать быстрее государству — выполнять «первую заповедь». Решили поднять народ на обмолот вручную: где катками, а где и цепом.
Хлеб потек на приемные пункты.
Но вдруг ударили дожди. Большинство токов открытые, без навесов, подмокший хлеб стал согреваться, гореть. Снова заседаем, ломаем голову: как выйти из положения? Решили срочно сооружать свое сушильное хозяйство.
В Червене раньше о сушильнях ничего не знали. И вот мы впервые в колхозах «Октябрь» и «Первое мая» начали их строить. Мобилизовали всех печников, столяров, приспособили сараи, у кого какие были, клали каменки, ладили навесы, нары. А пока суть да дело, все комсомольцы стали брать сырое зерно по домам, рассыпать на печах, на полатях, в хатах на полу. Все коммунисты района, весь советский актив были брошены на спасение хлеба. По грязи в непогоду возили его машинами, подводами, таскали мешками. Ни в селах, ни в хуторах никаких приспособлений для массового хранения зерна не было, все приходилось придумывать на ходу.
Вырастить такой щедрый урожай и потерять его по вине стихии? Нет, с этим никто не хотел мириться. Члены бюро райкома неделями не показывались домой, в Червень, так и жили в селах, на токах, в мастерских, ходили пропыленные, с красными, воспаленными глазами, в стружках, в мякине.
И вот внезапно, когда мы явно застряли с уборкой, из одного колхоза пришло ошеломляющее известие: там идет к концу обмолот, обещают первыми закончить хлебосдачу. Вот удружили! Вот выручили! Председатель райисполкома от радости послал поздравительную телефонограмму. Вызвал сотрудника нашей районной газеты «Коллективист», предложил ему поехать в колхоз и дать большую похвальную статью.
— Не жалей красок! — воодушевленно наказывал он корреспонденту. — Поярче опиши! Твою статью из рук рвать будут.
— Только получше на месте разберись, в чем дело, как это они сумели всех опередить, — предупредил я.
Меня точил червь сомнения: машин мало, положение авральное — и вдруг такой успех. Откуда он?
— Что ты за Фома Неверующий, Василий Иванович! — кипятился председатель райисполкома. — Все решает энтузиазм масс.
Увы, подозрения мои оправдались. Ну и оконфузились бы мы, поспеши корреспондент с хвалебной статьей!
Видно, наши стенания все-таки дошли до «небесной канцелярии»: дожди наконец-то утихли. Снова августовское солнышко загуляло по небосводу, земля стала парить, просыхать.
Правда, почва в Червене скверная — суглинок. Глянешь — земля вроде сухая. Но вот попробуй ступить… Раз, помню, во время дождей трактор «ЧТЗ» отошел от дороги метров на двадцать и безнадежно завяз. Чтобы вытащить его, пришлось рыть траншеи.
Наконец земля по-настоящему высохла. Можно было продолжать уборку, быстрее вести хлебосдачу.
В разгар уборочной наша Червенская МТС разбогатела: пришли первые комбайны. Все мы воспрянули духом, любовались этими великанами: теперь-то наверняка и скосим, и обмолотим хлеб в срок. Словом, торжество было полное. При распределении машин долго спорили, кому в первую очередь дать комбайны. Решили, лучшим колхозам, как бы в премию. Они быстро уберут хлеб, и тогда степные корабли поплывут на другие поля.