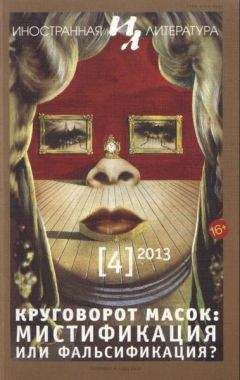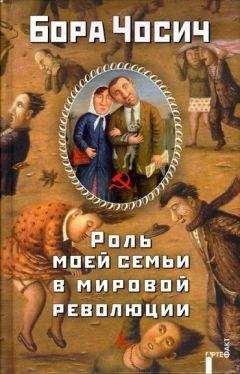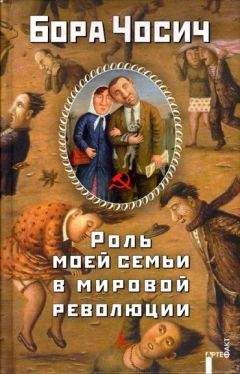Добрица Чосич - Солнце далеко
Этим и кончился медицинский осмотр.
Когда стемнело и можно было свободно пройти из одного двора в другой, Аца, согнувшись, вошел в комнату, где сидели Павле и Вук.
— Товарищ комиссар, у меня приступ аппендицита. Со вчерашнего вечера мучаюсь.
Павле строгим взглядом смерил его с ног до головы, немного помолчал и спросил:
— А что тебе сказал Света?
— Ничего! А что он мне может сказать! У меня внутренняя болезнь, а он умеет только рану перевязать да прописать аспирин.
— А мы чем можем тебе помочь?
— Мне трудно двигаться в таком состоянии… — Он замолчал, поморщился и добавил тихо: — Я буду только обузой для роты. Вам нет смысла тащить меня дальше. В соседнем селе у меня родичи, я бы мог там переждать, пока вы не вернетесь… Так будет лучше.
Вошла хозяйка и принесла простыню, чтобы завесить окно.
Все молчали. Вук внимательно разглядывал Ацу. Павле с папиросой в зубах прошелся по комнате, дергая себя за левый ус.
«Паника. Боязнь новой местности. Сомнения… А я думал, что с этим уже покончено. И не только этот… Встретятся, наверно, и другие трудности, а там пойдут новые и новые…» — думал с тревогой Павле, ища правильного решения.
— Неужели так уж совсем идти не можешь? — спросил Вук, когда хозяйка вышла.
— Если бы мог, разве я согласился бы отстать от отряда и хорониться по сеновалам? — раздраженно ответил Аца, не глядя на Вука, которого он недолюбливал и не уважал как командира.
— Видишь ли, Аца, я согласен, что у тебя болезнь внутренняя, — спокойно начал Павле. Он взялся руками за спинку стула, раскачивая его и пристально глядя на Ацу, который сел возле окна. — Твоя болезнь называется паникой. И она проявляется именно в такие моменты, как сейчас, когда идет наступление, когда надо перейти Мораву и как следует драться с четниками.
— Товарищ комиссар, по-моему, у тебя нет оснований так говорить. Будь я паникером, я бы не пошел в партизаны! — обиженно прервал его Аца.
— Погоди, я не кончил! И еще раз тебе говорю: твоя болезнь — это паника. Понимаешь? Мы, политические комиссары, — профаны в медицине, но это мы называем моральной чахоткой. Ясно? Страх точит твою душу, как червь… — Павле отставил стул, заложил руки за спину и продолжал, не слушая протестов Ацы: — Как и всякий туберкулез, она поражает все органы, а когда моральная чахотка забирается в сердце бойца — он становится трусом! Погоди, погоди, ты еще будешь говорить, когда я кончу! Затем она распространяется дальше — на мозг! А когда захватит и мозг, тогда заболевает уже весь организм, и такое состояние я бы назвал предательством. Вот чем ты заболел.
— Извини, но я не могу больше так разговаривать! Я думаю, что своим поведением в боях я доказал… — закричал Аца.
— Молчи и слушай дальше! — резко, но не громко оборвал его Павле. — Я согласен с тем, что ты — лишний груз для отряда…
— Идиоты, и кому взбрело брать в отряд офицерье, — как бы про себя сказал Вук.
Павле недовольно посмотрел на него и продолжал:
— Ты являешься для отряда и излишним грузом и еще кое-чем похуже. Твоя болезнь заразна. Хорошо, что она поразила именно тебя. Вот что я хотел тебе сказать. А сейчас сдай оружие и боеприпасы и убирайся куда хочешь. И смотри: если выдашь отряд, я тебя все равно рано или поздно найду. Понял?
— Не сдам оружие! Я партизан и останусь партизаном! А ты когда-нибудь в этом раскаешься. — Аца встал.
— Еще грозишь, предатель! Я не знаю философии, как Павле. Убью! — Вук схватился за револьвер, но Павле взял его за руку.
— Ты что? Успокойся!
— Снимай винтовку и давай сюда патроны! Снимай, чего ждешь! — прошипел Вук.
Аца снял винтовку и сумку с патронами. Павле даже не взглянул на него, когда он выходил, продолжая молча шагать по комнате.
— Знаешь, Павле, что ты сделал? — зло сказал Вук.
— Знаю. А что?
— Выдаст нас, мерзавец. Ты играешь судьбой отряда.
— Так надо. Надеюсь, ты не думаешь и здесь начинать с расстрела колеблющихся? Сегодня же вечером мы сообщим бойцам, что вышвырнули этого труса из отряда.
— А я с такой политикой не согласен. В сложившейся обстановке трусов и паникеров надо расстреливать!
— Для отряда сейчас лучше прогнать труса, чем расстрелять, — сказал Павле. Он считал, что после истории с Гвозденом это тяжело подействовало бы на людей.
В этот момент вошел Никола и сообщил, что парень из Слатины, тот, что пришел в отряд осенью, жалуется на отмороженные ноги, говорит — не могу идти дальше.
Павле и Вук переглянулись. Никола тут же добавил, что с этим слатинцем дело нечисто: как только отряд ушел с Ястребца, парня словно подменили.
— Ну, у этого другая болезнь, — заговорил Павле, снова прибегая к сравнению, что ему, видно, понравилось. — У него болезнь, которой страдают все крестьяне: «Если мне суждено погибнуть, то уж лучше у себя дома».
Вук в нескольких словах рассказал Николе, что произошло с Ацей.
— Прав был Евта, когда говорил: червивое яблоко не ждет бури, оно падает от первого ветерка. Так и со слатинцем. Отбери у него оружие и отпусти, пусть себе идет, — сказал Павле. — Еще трусы есть?
Никола смущенно посмотрел на Вука и Павле, обескураженный вопросом комиссара.
— Да нет, какие там трусы! Люди держатся отлично.
— А я тебе еще раз говорю: я не согласен с такой политикой, — воскликнул Вук. — Люди подумают: штаб деморализован и отпускает всех, кто куда хочет. Сейчас надо тверже держаться.
— Я согласен с Вуком, — поддержал Никола.
— Меня вы не разубедите. Я знаю, что делаю. И вы скоро это увидите, — смело заявил Павле.
За ужином Павле расспрашивал хозяина о дороге, ведущей в сторону, противоположную той, куда они действительно направлялись.
Поговорил он немножко и с «пленным» крестьянином. Тот не жалел слов, выражая свое восхищение партизанами. Крестьянин добавил, что еще до войны он читал какую-то запрещенную книгу о Советской России и что с первого же дня восстания стоял за коммунистов. В ответ на это Павле слегка пригрозил ему, на случай, если тот вздумает кому-нибудь сказать, что видел их.
— Не сомневайся! Видел я вас, не видел — все одно. Ничего я не видел, — заявил довольный крестьянин. И, уже уходя, он, как бы что-то припомнив, добавил: — Товарищи, я вам на дорогу сала дам.
Павле поблагодарил его, и он ушел.
Партизаны осторожно вышли из дома и тесной колонной быстро направились через поле к Мораве. Жизнь в селе замирала. Только кто-то доставал воду из колодца, и слышно было как потрескивают бревна промерзшего сруба. Даже собаки не лаяли — такой стоял мороз.
К станции подошел вечерний поезд и сипло, по-гусиному, зашипел, выпуская пар.
Снег скрипел под ногами шагающей колонны, и в воздухе надолго оставался этот звук. Рассыпанные по небу звезды спустились ниже.
В роще, где они провели прошлую ночь, Павле построил отряд и сделал перекличку. Затем он попросил партизан подойти поближе.
— Товарищи, довожу до вашего сведения, что мы выгнали из отряда одного труса — он испугался трудностей борьбы.
— Что, Ацу? — спросил кто-то.
— Ацу.
— Правильно. Хотя надо было бы расстрелять.
— Мы не расстреляли его потому, что считаем изгнание из отряда гораздо более тяжелым наказанием для партизана, чем расстрел…
— В этом наступлении мы очистим свои ряды от всякой дряни! — прервал Павле чей-то голос.
— И нечего в отряд принимать первого встречного, только винтовки зря держат, — добавил еще кто-то.
— Слабые бегут от нас и предают именно теперь, когда впереди самое трудное. Они недостойны называться людьми. Давайте же посмотрим в глаза друг другу: может быть, среди нас еще есть люди, которые не хотят бороться? А ну, товарищи! Если есть такие, пусть говорят прямо, пусть сдают оружие и идут на все четыре стороны.
— У меня отморожены ноги, но я все равно пойду. Я не стану предателем. Пока смогу, буду идти, а когда уж не хватит сил… ничего… у меня найдется для себя пуля! — заявил слатинец.
Партизаны повернулись к нему, чтобы увидеть его лицо.
— Не можешь идти — отправляйся сейчас же домой. Лучше сделать это у всех на глазах, чем потом втихомолку улизнуть, — сказал Павле.
— Нет. Я уж сказал. Я остаюсь с вами, хоть и с трудом стою на ногах.
— Ладно! Еще кто-нибудь есть?
— Нет, товарищ Павле. Ведь нас никто не заставлял идти в отряд.
— Итак, ночью мы переправляемся через Мораву. От всех вас потребуется особая осторожность и дисциплина, — сказал в заключение Павле и отправился на берег, посмотреть, не пришел ли Йован.
Наконец Павле почувствовал себя уверенно. Поведение бойцов придавало ему силы. Он понял, что сегодня вечером с разбродом в отряде покончено.
В тот же вечер слатинец сбежал.
22
На следующий день после ареста Йована вместе с другими выпустили в сумерки на прогулку в маленький тюремный дворик. «Прощай, старая вонючая конура! Живым ты меня больше не увидишь!» — думал Йован, выходя из коридора на лестницу. Он остановился на последней ступеньке, набрал полную грудь холодного январского воздуха и невольно засмотрелся на маленькое облачко, похожее на обгоревший по краям красный девичий платок и словно зацепившееся нижним краем за колючую проволоку, окружавшую тюремный двор. Морозный чистый воздух и возбуждение, охватившее Йована при мысли о побеге, придали ему новые силы. Йовану так и хотелось прямо отсюда, с лестницы, броситься к стене и, ухватившись рукой за колючую проволоку, перемахнуть через нее.