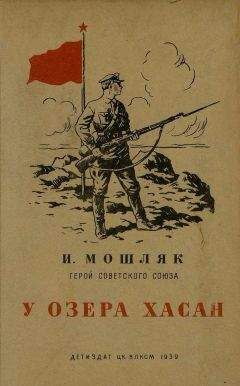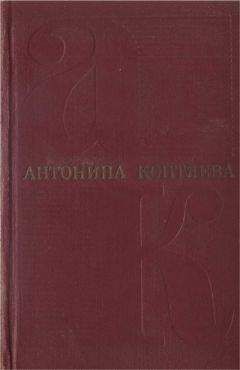Вадим Пархоменко - Вдалеке от дома родного
Анна Аркадьевна как в воду глядела. Ребята в это время действительно говорили о родителях, о Ленинграде.
Хорошо поработав и поужинав, они забрались на свои топчаны, чтобы перед сном спокойно поговорить о том, что их волновало, — о доме.
В комнату вошел Володька Новожилов, по привычке стал спиной к печке, хоть она давно уже и не топилась, и, взяв на гитаре пару красивых аккордов, тихо запел:
Пусть нас раскидало по планете
Черной, грозной силою войны.
Мы с тобой теперь уже не дети,
Мы — Отчизны верные сыны…
— Это же мои стихи! — заорал Петька, спрыгивая с топчана.
— Были ваши, — спокойно возразил Новожилов, — стали наши. Не теряй листочки. Я их с полу поднял. Гляжу — стихи. Сразу понял, что твои. У нас ведь больше никто стихами не страдает… Попробовал под гитару — песня получилась.
— Отдай, — попросил Петька. — На что они тебе?
— Возьми, — сказал Новожилов, — я их запомнил уже. Вот вернемся мы месяца через два–три домой, в Ленинград, потеряем друг друга из виду, а память о тебе у меня останется — песня…
— Не трепись, Новожил. Петькины стишки — ерунда. Поэты — они всегда большие, а не такие сморчки! Скажи лучше, откуда ты про «два–три» месяца узнал? Или сам придумал? — раздался из угла скрипучий голос Жорки Грека.
— Новожил не придумал, — вмешался в разговор Вовка Рогулин. — Я от мамы письмо сегодня получил. Пишет, что и в роно, и в исполком бегала, о нашем возвращении узнавала. Говорит, что летом обязательно нас обратно вернут.
— Вернуть–то вернут, но когда? — не унимался Жорка. — Может, после дождичка в четверг!..
В него полетели башмаки и подушки. — Не каркай, Грек!
— Не о том бормочешь!
Ребята рассердились не на шутку. Еще бы! Четыре долгих года они жили надеждой на скорое возвращение домой, каждый день мечтали, думали: «А вдруг завтра…» И вот, когда это «завтра» должно было наступить, Жорка своим неверием попытался разрушить их надежду…
— Тише вы! — прикрикнул на них Новожилов и повернулся к Жорке: — А ты думай, что говоришь!
Зазеленел клейкими березовыми листочками май. Было хорошо и радостно — из дому шли письма: «Скоро, дорогие наши, мы обнимем вас…»
Витька Шилов ходил и посвистывал. А что оставалось делать? Он нервничал, на душе у него было муторно. Из родных не осталось у Витьки никого на всем белом свете, и никто его нигде не ждал.
Но Витька бодрился. Он еще на что–то надеялся.
— И когда, наконец, эта война проклятущая кончится! Наши в Берлине, а мы все еще тут, — сказал он вечером. А утром…
Ребята проснулись оттого, что кто–то их тормошил, обнимал и громко кричал:
— Проснитесь же вы, наконец! Нету больше стреляющих пушек, грохота бомб и бесноватого Гитлера! Победа!
Зареванная от счастья Мария Владимировна Чач бегала от топчана к топчану:
— Да вставайте же вы, золотые мои, окаянные!.. Лучше бы она их не будила! Лучше бы и другие воспитатели не будили так неожиданно ни мальчишек, ни девчонок столь радостной и долгожданной вестью. Все словно взбесились: ребята расшвыривали столы и стулья и бросались обниматься, вверх летели книги и подушки — больше «салютовать» было нечем; девчонки визжали, пищали, целовались и тоже переворачивали все вверх тормашками…
А Витька Шилов ходил и посвистывал. И еще с десяток огольцов ходили, хмурились… и посвистывали. Им сочувствовали. Все. Очень. Потому что те, у кого погибли родители, у кого не стало ни мамы, ни папы, ни родной тети хотя бы, — те навсегда, по крайней мере на долгие годы, должны были остаться здесь. И даже не здесь, не в Бердюжье: их отправляли дальше — в детдом для сирот…
* * *…Первого июля тысяча девятьсот сорок пятого года, около полудня, со стороны большака послышался шум моторов, и вскоре на сельской улице, ведущей к интернату, показалась колонна грузовиков — десять машин. Среди них были и такие, каких ребята еще не видели, — трехосные «студебеккеры». Они остановились возле интерната.
К долгожданному отъезду приготовились заранее, еще с вечера, и поэтому шоферам долго ждать ребят не пришлось.
— Грузись, огольцы! — радостно крикнул Петька, подсаживая в кузов первой машины коротышку Вальку Пима.
Потом ребята посадили в машины девчонок, рассовали меж ними ведра, бадейки и тючки с едой — до Ишима путь предстоял долгий — и с громкими криками и воплями полезли в кузов сами.
Последними сели в машины воспитатели и Анна Аркадьевна.
Призывно просигналил первый грузовик, и колонна тронулась.
Вслед уезжающим махало множество рук: ленинградцев провожали тепло. И примерно с километр скакал за машинами на неоседланном огненном жеребце лохматый и чумазый Мотька.
— Э–ге–гей! — кричал он. — Не забывайте!
— Не за–бу–у-удем!
— Прощай, Бердюжье!..
— Недельки через две будем дома, — радовался Талан. — Даже не верится. Узнают ли нас? Узнаем ли мы Ленинград?
— Чепуха! — засмеялся Иванов. — Как это нас не узнают или мы не узнаем? Мы же натуральные ленинградцы! — И он запел:
Пусть нас раскидало по планете
Черной, грозной силою войны.
Мы с тобой теперь уже не дети,
Мы — Отчизны верные сыны!
— Ты молоток, — сказал Новожилов. — У тебя котелок варит.
— Все мы молотки! — крикнул Петька. — Все! — И вдруг поник, сделался грустным, повернулся спиной к кабине и стал смотреть на степь и перелески, на убегающий назад большак…
А годы летят…
Прошло много лет. Выросли, возмужали бывшие интернатовцы, у многих из них уже обильная седина в волосах…
Да, годы летят. Ленинградские мальчишки и девчонки, спасенные Родиной в лихую годину войны, давно уже сами стали папами и мамами, даже дедушками и бабушками, но никогда не забудут они, как четыре долгих тревожных года жили без отцов и матерей — вдали от дома родного.
В воспоминаньях толку нету,
Но почему–то к ним влечет, —
Так песня грустная пропета,
А грусть все за душу берет, —
писал спустя годы после возвращения в родной город уже взрослый Петька Иванов — теперь он стал Петром Степановичем.
Да, годы летят!.. И ничего тут не поделаешь, что бывшие интернатовцы встречаются редко. У каждого — свои дороги! Многих судьба раскидала далеко друг от друга.
Регулярно, раза два в год, видится Иванов лишь с Жаном Гансовичем Араюмом, который живет и работает недалеко от Ленинграда. Да сравнительно недавно навестили Петра Борис Тимкин (помните, в интернате его прозвали Добавкой?) с женой и своей родной сестрой Валей. Валя работает в детском доме в городе Кировске. Воспитатеем. Сейчас нет войны, но есть дети, живущие и в мирное время без отцов и матерей, и Валентина отдает этим детям — мальчишкам и девчонкам — тепло своего сердца, чтобы выросли они гражданами, достойными своей великой Родины.
Есть неожиданные встречи:
«Мир тесен», — люди говорят…
Вот так, как–то неожиданно, вроде бы случайно, встретил Петр Иванов весной, накануне Дня Победы, товарища далекого военного детства — Александра Васильевича Цыбина. Произошло это в еще безлистном, но уже чуть зеленеющем от раскрывающихся на деревьях почек Михайловском саду.
Я сказал, что встретились они «вроде бы случайно». Но в жизни все закономерно. Обоих притягивало к себе Марсово поле, хоть оно и не связано прямо с Великой Отечественной…
Они не виделись несколько лет.
После изумленного узнавания, первых радостных возгласов, крепких рукопожатий и объятий, оба взволнованные, обрадованные тем, что видят друг друга, они присели на первую попавшуюся скамейку. И, как всегда бывает в подобных случаях, начались бесконечные взаимные расспросы: «А помнишь? А знаешь?»
Пожилые женщины в темных фартуках — садовые работницы — сгребали в большие кучи бурую прошлогоднюю листву, сухие, сбитые ветром и птицами веточки, сучки и сжигали их. Сизоголубой, горьковато–пряный дымок медленно стлался по влажной земле, обволакивал черные кусты и незаметно таял…
Петру вспомнились когда–то давно слышанные стихи:
А в старом парке листья жгут,
Он в синей дымке весь.
Там листья жгут, там счастья ждут…
«Кажется, это Шефнер? Или Коля Новоселов?» — подумал он, досадуя, что не помнит точно. Покойный поэт Николай Новоселов любил иногда читать эти строки.
Погрузневший и располневший за последние годы Цыбин положил Петру Степановичу руку на плечо:
— Ты что загрустил?
— Вспоминаю. Прошлое, — ответил Иванов, немного помолчав. — Без этого жить нельзя. Ведь прошлое — это та почва, на которое выросли все мы, сегодняшние… Ну а ты–то как?
Цыбин достал пачку «Беломора», закурил и весело–довольно забасил: