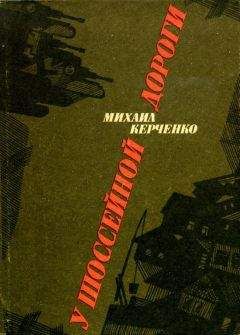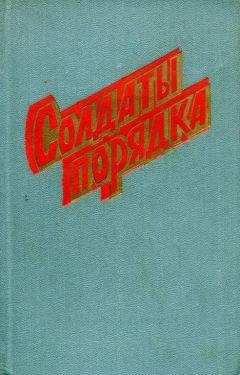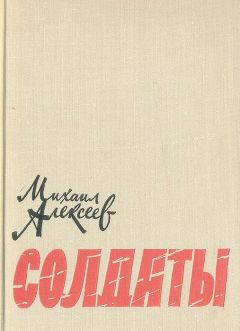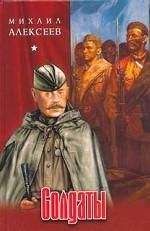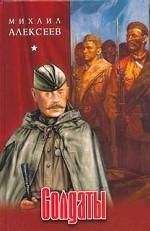Михаил Шушарин - Солдаты и пахари
Более трехсот мужиков ушло на войну за три года. Двести шестнадцать баб получили уже похоронки — стали официальными вдовами… Не придут уж больше к ним милые-премилые никогда. Но и это не все. Война не кончилась.
Они растили хлеб и доили коров, они садились за штурвалы комбайнов и брались за литовки, они рубили дрова и силосовали лебеду, они сеяли, они страдовали, выполняли планы и обязательства по сдаче государству хлеба, мяса, молока, яиц, шерсти… Они растили детей.
По селу ходила частушка:
Скоро кончится война,
И останусь я одна.
Я и лошадь, я и бык.
Я и баба, и мужик.
Встать бы нам сейчас всем на ноги, во весь рост, и всей державой Российской поклониться бы тем бабам до самой земли.
Перед страдой ушли на фронт два молоденьких комбайнера. В МТС Никите Алпатову сказали:
— Изыскивайте замену на месте. Берите и сажайте на комбайны кого-нибудь из своих.
— Где изыскивать? В каком углу, покажите?
— Старик у вас там есть, Григорий. Он — мастер на все руки. Его берите.
— Разве ж только его.
Все трудное время, от весны до заморозков, Григорий был колхозным объездчиком. Ранними утрами запрягал выделенную для такой цели конягу и колесил по просекам, по полям и сенокосам, заглядывая на Сивухин мыс и на Цареву пашню, осматривая буйно наливающуюся пшеницу-белотурку на массивах, распаханных уже после коллективизации. В эти дни он все яснее и яснее замечал в себе пробуждение ранее дремавшего чувства — благоговения перед хлебом, перед разливом полей и тихим звоном колосьев. Подъезжая к полю, он привязывал лошадь вдалеке от него (чтобы, не дай бог, не дотянулась до массива), заходил на опаханную кромку и обнимал пшеницу или рожь, пряча в них лицо. Потом срывал колос (один колосочек), мял его долго в ладонях и, отвеяв мякину, кидал мягкие зерна в рот, втягивал ноздрями ядреные запахи. Жил в Гришке наследственный хлебороб. Крестьянин. Не выцарапаешь это из души ничем.
И еще одно обстоятельство гнало Гришку из дому. Тамара его, «белая зараза», колодой лежала на кровати, и от долгого ее лежания подымался в горнице тяжелый старушечий дух. Объявляя всем с сожалением, что супруга его сильно занемогла, он бежал от этого тлена на волю, в поля, оставляя ее одну, постоянно захмеленную, вялую. Выждав его отъезд, Тамара добралась-таки до подполья, где стояли фляги с крепкой, выстоявшейся на самодельных дрожжах брагой…
Когда комбайнеров-призывников увезли в военкомат, Григорий даже испугался: «Такая пшеница! Кто убирать будет? Пропадет, не дай бог, хлеб!» Предложение Никиты Алпатова упало на благодатную почву.
— Согласен, — сказал Григорий председателю. — Двигателя мне починять приходилось. Только ты трактор сильный, чэтэзовский проси.
— Для чего?
— Оба комбайна сцепим… А на штурвалах девки постоят, не велика эта наука… Поскорее дело-то пойдет!
Так и сделали. И действительно, в первые дни молотьба шла бойко. Девчонки-штурвальные пели песни, не уходили с мостиков сутками. «Потом отоспимся». Но вот исчез главный комбайнер — Григорий. Не было его три дня. Вышел из строя один из комбайнов в сцепе, простоял из-за этого почти весь день другой. Нарочный, посланный председателем за Гришкой, вернулся пустым:
— Они пьяные в дугу, оба со старухой… На крылечке сидят, песни орут!
Вышла в эти дни в Родниках стенная газета, где редактор Оксана Павловна изобразила Гришку в обнимку с поллитровкой. Гришка взъярился окончательно: «Я пуп надрываю, а они просмешничают!» Несколько раз спустился в этот день в подполье к флягам, прикладывался увесистым бражным ковшиком и, обалдев, пошел в клуб, сорвал рамку вместе с колонками текста, протащил волоком по улице, втоптал в грязь.
— Хватит издеваться над тружениками.
И еще одна беда пришла в Родники.
Иван Иванович Оторви Голова провел заседание сельисполкома, где полосовал стоявшего посередине комнаты Гришку вдоль и поперек:
— Я тебе, контра, покажу, как стенгазеты рвать… Ты у меня запляшешь, бандитский блюдолиз… Не только на комбайны его не сажать, а вообще близко к хлебу не подпускать… И лошадь больше ему не давать… Он раньше такие хориные привычки имел. И сейчас их вспомнил!
Гришку строго предупредили. Ивана Ивановича успокоили. Заседание кончилось. Все мирно разошлись по домам. Иван Иванович остался повечеровать «при лампе», разложил на столе свежие газеты. Сел… И так больше и не поднялся. Ни часу времени для себя не утаил. Все людям отдал.
По решению исполкома районного Совета похоронили его, как и борцов революции, на площади, рядом с Терехой и Марфушей, с Федотом, с Платоном Алпатовым и многими-многими другими. Все родниковцы пришли прощаться со своим опекуном, судьей и защитой. Но Гришка, вернувшись домой, выругался и сказал:
— Тоже нашим-вашим вертелся… На других только ярлыки вешал!
— Хорошо врать на мертвых! — Подобие улыбки скользнуло по сизому лицу Тришкиной супруги.
— Я вру? — налетел на нее Гришка. — Ах ты, зараза белая, колчаковская служка!
— Не ори! — ощетинилась на него женщина. — Не нужна я сейчас никому, ни белая, ни красная… Хотя власть ваша вроде бы должна о любом человеке заботиться, пусть хоть какой веры или хоть какого направления!
— Да-да-да! Вот они узнают, кто ты такая, и обязательно позаботятся о тебе: веревку тебе спустят новую и маслом конопляным смажут!
Гришка хохотал, а в глазах у него стоял страх.
6Сталинград. Курская дуга. Ясско-Кишиневская операция. Бои за Румынию. И, наконец, Венгрия. Здесь-то и сошлись пути-дороги отца и сына Тарасовых.
Степан случайно узнал о располагавшейся по соседству гвардейской дивизии генерала Тарасова. Через несколько минут комбат уже разговаривал с отцом по телефону, а еще через полчаса они обнимали друг друга.
Огромный, заматеревший к старости Макар держался молодцом, непринужденно и весело. Старая кровь все еще брагой молодой вспенивалась.
— Тихон! — кричал он. — Неси вино. То самое, что у тебя в заначке… За удалого отца двух матерей дают! А?
И хохотал басовито.
— Товарищ гвардии генерал-майор! Папа!
Горячие будни войны и лишения, вся соленая солдатская правда были написаны на лице Степана. Он изменился сильно. Серебряная прядь засветилась в черной шевелюре. Он стал еще выше ростом и раздался в плечах, во взгляде потухли прежние озорство и легкость. Он будто прижимал собеседника к стенке, торопил: «Кончать все это надо, и как можно скорее». Чувствовалось, перегорел парень в большом огне, твердо встал на свою, только ему принадлежащую стезю. Знает, что надо делать сегодня, завтра и всегда.
— Мог бы я, папа, и еще одну радость тебе устроить, да сорвалось дело.
— Что еще?
— А ты знаешь, кто командует нашим полком?
— Откуда мне знать?
— Друг твой. Данила Григорьевич Козьмин.
— Данилка? А где же он? Давай звони ему непременно.
— Нет его, папа. В госпитале. Скоро вернется.
— Жаль. Очень жаль… Мы с твоим командиром, с Данилой Григорьевичем, всю гражданскую вместе были… Э-э-э, это, Степа, не человек, это — чудо-человек…
Налили рюмки, с горестью взглянули на бокал, наполненный до краев и одиноко стоящий посередине стола, для Рудольфа.
— Мать не могла пережить этого… Сорвалась.
— Ее нетрудно понять, папа!
— Нетрудно. Конечно. Согласен… Но мы в этой войне все, офицеры, генералы, солдаты, не только плоть свою сохранить должны, но и дух… Не забывай, какую страну мы отстаиваем…
— Правильно, да не всегда… Раз на раз не приходится… У моего начштаба все мужчины в роду погибли, и мать, и дети, и любимая. Он идет сейчас с нами по Европе. Без пощады идет… И ничего с ним не поделаешь…
— Горько все это, Степа… Навеки люди должны запомнить. Если забудут — выродится Человек!
Поздней ночью, когда остались вдвоем, размечтались.
— Как только закончим войну, в Родники поедем. Правильно, папа?
— Да, да! — соглашался отец. — Никаких иных решений быть не может.
— И на рыбалку закатимся… Я там на плесе, под крутояром у Сивухиного мыса, до войны еще окуней прикормил… Клев был! Это был клев… В жизни такого не видывал! Удилища не выдерживали, ломались с треском.
— Под крутояром, около мыса? Что-то я такого не помню… Не должно там клевать. Ты что-то путаешь… Там вечно одни гольяны бьются… Да выметь[3] для поросят собирают!
— Клянусь честью… Мы с Рудольфом два ведра за утро взяли!
— Не сочиняй!
Кто в эту короткую апрельскую ночь сорок пятого года мог предположить, что в городе Будапеште, в штабе Днепропетровской, Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова, «непромокаемой», «непросыхаемой» гвардейской дивизии, в кабинете у самого генерала идет спор о способах наживки на окуня и ерша, о вентелях и мережах, о том, что в осиновом колке, за Царевым полем, неизвестно еще, будут ли рыжики и маслята; если не выпадет вовремя дождей и туманов — можно вообще остаться без грибной закуси.