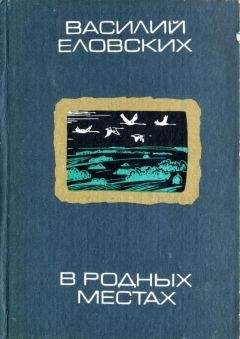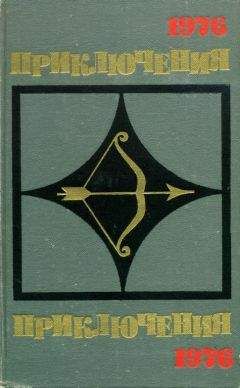Василий Еловских - Вьюжной ночью
Маленький потрепанный, видавший виды автобус, забитый пассажирами, бойко бежит по Северному тракту, огибая сугробы, шарахаясь вместе с трактом то вправо, то влево от болот, рек и чащоб — извилисты, запутанны таежные дороги. Дыханием очищая стекло от льда, Женя жадно смотрит на сосны и ели, на поляны в глубоком снегу, на тракт, по которому несется снежная поземка, и ему становится отчего-то и весело и грустно. Всегда есть что-то волнующее в поездках по сибирским дорогам, тянутся и тянутся они по тайге, упрямые, сильные и жалкие, и кажется, нет им ни конца ни края. Женя смотрит на вековые деревья, и зябко становится ему от мысли, что, выйди он сейчас из автобуса, углубись в тайгу, и вскоре заблудишься: к северу нет, говорят, дорог и деревень, на сотни километров вокруг — тайга и тайга. И снег — с головой провалишься, и холод; медведи в берлогах, голодные волки, лишь редко где попадется полуразвалившаяся избушка, поставленная охотниками бог весть когда.
Он выехал чуть свет, надеясь догнать шаманов или хотя бы что-то узнать о них (вот будет новость! Он представил удивленно вытянутые лица ребят и… Маргариты). Тетя ругалась, не пускала.
До прихода автобуса он разговаривал с мужиком, у которого знахарила Федотовна. Тот ничего особого не сообщил: да, приезжала, подлечила маленько. Дальней сродственницей ему приходится Федотовна-то. Что болело? Голову кружило по утрам. Травки дала, с чаем пил, мед, черную смородину и печенку сырую есть велела. «Знает, какие продукты полезны, старая карга!» — со злой насмешкой подумал Женя. Потом к врачу мужик ходил, лекарства ел и пил. «Мед, печенка, смородина да еще хороший врач — недурно!» Не кружится голова теперь. «Еще бы!..» Что заплатил Федотовне? Да она ничего и не просила. А все же? Ну, щучку дал. Щук он до черта в Иртыше налавливает — не жаль, тем более что сродственнице. Больше ни к кому Федотовна не ходила. «Лечение сугубо по знакомству».
После разговора с мужиком Женя написал письмо двоюродной сестре, которая жила в одном доме с Маргаритой и была с ней в дружбе. Обо всем написал. И о пурге. И даже заголовок поставил: «В погоне за шаманом», как будто это статья в газету. Он решил отправлять по письму в день — одно сестре, другое — Сашке. Сашке можно и наскоро, информационно, друг есть друг — поймет, а сестре — политературней и даже можно немножко сентиментально, девчонки любят, когда немножко сентиментально. Что скажет Маргарита?
Автобус свернул с тракта на проселочную дорогу, уж совсем скверную; она была по-своему красива — тихие глухие дороги в густой тайге имеют свою прелесть, — но неудобна для проезда; ехали едва-едва, натыкаясь на сугробы и застревая, пошатываясь с автобусом то вправо, то влево, машина тряслась, вздрагивала, болезненно завывала, было холодно и сыро. Женя прилипал к глазку, проделанному в обледенелом стекле, и уже не видел поземки, только снег, кругом снег и толстенные стволы сосен; видимо, ветер бушевал наверху и, путаясь в макушках деревьев, поставленных плотно, как частокол, ударял порывами по земле.
При тряске думалось плохо, какими-то урывками и черт знает о чем; Женю поташнивало, он замерз и уже жалел, что поехал; правду говорила тетя: где их найдешь, шаманов, для них тайга — дом родной. Как он мечтал в городе об этой тайге… И как много говорили о ней в кружке краеведческом. Собственно, кружок не очень-то интересовал Женю, и он пошел в него так, от нечего делать, из-за Сашки больше, а еще больше из-за Маргариты… Он любил медицину. А вот Сашка, тот… тот всегда там, где люди, где толчея, говор и смех. Твердо ничего насчет дальнейшей учебы Сашка еще не надумал: собирался в политехнический, в летное училище, хотел стать моряком, шофером, и вот совсем недавно заявил: «Поеду в Заполярье. А кем буду — увижу». Не знает человек заботушки, на роже — вечная улыбка. А Женя сколь ни пытался перед зеркалом сделать лицо веселым, беззаботным, придать ему этакое лихое, молодецкое выражение — не получается; вид у него всегда угрюмый, печальный, будто он только-только с похорон возвратился. Но у них с Сашкой дружба — водой не разольешь.
Автобус качнулся, покатился куда-то влево и книзу и остановился, накренившись. Стало неприятно тихо. Шофер завел мотор и, дергая машину вперед и назад, попытался вытянуть ее из сугроба. Это дергание, завывание мотора, кривой пол автобуса раздражали и утомляли еще больше, чем тряска на дороге.
Шофер ругнулся матерно, но как-то нехотя ругнулся, будто это входило в его постоянные служебные обязанности, кто-то из пассажиров тяжко вздохнул, все другие угрюмо молчали. Женя подметил: жители сибирских деревень терпеливы; горожанин, застряв на такой дороге в сугробе, исхнычется, разнервничается, а деревенские молчат — будто так и надо, насупились. Лишь одна молоденькая, чернявая, с бойкими глазенками, в мужском полушубке, сидевшая рядом с Женей, была беспричинно весела и шумлива.
— А ну вылазь! — крикнула она, махая рукой.
Вылезать не хотелось, Женя и без того замерз в легком городском пальтишке и твердых, как дерево, пимах. Чернявая поглядела на него и вдруг ни с того ни с сего заорала:
— Полюбуйтесь-ка на милягу! Поглядите-ка! Чуть тепленький.
— Ой, как остроумно! — отозвался Женя как мог холоднее.
— Нет, послушайте, он еще грубит.
Пассажиры начали посмеиваться. Какая-то старуха проговорила:
— Нонче мужики-то хужее баб.
Это вконец рассердило Женю, и он с неприсущей ему прытью ринулся из автобуса, деланно-безразлично поглядывая по сторонам.
Толкал автобус рядом с чернявой, которую, как он потом узнает, звали Гутей. Напрягаясь, она поджимала губы, хмурилась, и это ее старило, делало некрасивой. А вообще-то она была недурна, только, пожалуй, слишком курноса, и кожа на темных щеках шершава, груба. Руки по-мужски крепки. Гутя, единственная из всех, не мерзла и, расстегнув полушубок и оголив крепкую жилистую шею, весело посматривала вокруг, будто заявилась на бал. Ехидничала, подзуживала:
— Из города, вижу.
— А что у меня, клеймо городское?
— Вроде. Вы хваткие, городские-то. Осенью к соседке племянник приезжал. Тоже из города. Пошел с ребятами уток стрелять. А недалеко от озера болото. Наши-то в сторону свернули, а городской прямиком через болото поперся. Прыгает с кочки на кочку, а потом бултых — и завяз. От страха и ноги и руки отнялись. Пришлось вытаскивать, милягу. На другой день за грибами пошел. Собирает возле самой деревни поганки какие-то. Оглянулся — волк стоит. Корзину в кусты — и… задал стрекача. А это не волк, а собака была.
Похоже было, что она придумала историю с горожанином. Женя хотел ответить как-нибудь поязвительней, но автобус, выскочив из сугроба, рванул вперед, и пассажиры побежали.
Когда старуха сказала: «Застряли б было, а тут медведи и волки ходют. Следы-то вон», — Гутя, пристально, даже зло глянув на снег возле дороги, действительно испещренный чьими-то следами, усмехнулась:
— Ходят, ходят… Человек с собакой.
Повернувшись к Жене, пояснила голосом, в котором на этот раз чувствовалось какое-то даже веселье и дружелюбие:
— След задних ног у медведя совсем как человеческий. Только на медвежьем видны еще когти. А след волка крупнее, чем у дворняжек, и подлиннее.
С простотой и непосредственностью таежной жительницы, уже совсем позабыв о перебранке, она стала расспрашивать у Жени, сколько ему лет, где он живет, к кому приехал. Сообщила, что сама тоже учится, летом подрабатывает в колхозе — «куда пошлют» — и думает после десятилетки… Впрочем, ничего не думает: «Устроюсь где-нибудь, были бы руки». Выглядит куда старше своих лет и уж, конечно, может постоять за себя.
— Какой ты большой. Дяденька, достань воробушка. И имя у тебя какое-то бабское, — усмехнулась она.
— Почему бабское? — обиделся Женя. — Говоришь какие-то глупости. У тебя вот действительно… У тебя птичье имя, вот! Напоминает что-то гусиное — гу-гу-гу. Нет, в самом деле. Гу-гу-гу. Утя-утя-утя. — Он дивился тому, сколь свободно разговаривает с девушкой.
— Пошто ты думашь так? — Это она уже баловалась. — Пошто ты меня, деревенску, обижашь? Гли-ка на его, на лешака!
Улыбки, как они непохожи: веселые и печальные, добрые и злые, ехидные, простодушные, саркастические, презрительные, блаженные, умные, ласковые, а порою гармоническая смесь того и другого, и не поймешь, что выражают, — не то удовольствие, не то досаду или еще чего. И не всегда даже самая веселая и умная улыбка красит.
Раздумывая об этом, Женя пришел к выводу, что улыбка — и ласковая и насмешливая, сильнее насмешливая — очень к лицу Гуте, — девушка выглядит симпатичнее.
Она сказала, что была в городе только раза два и давно и сейчас уже плохо помнит, какой он, город. Ну, если и помнит, то только гладкую, как стол, дорогу, пятиэтажные дома и длиннющие заводские трубы с черным дымом. Некогда ездить, и далеко. Вот у двоюродной сестры побывала. У нее ребятишки мал мала меньше, а сама едва ходит. Мужа нет. Дровишек поколола, постирала. Потом к бабушке поедет, тоже поделает кое-что. Каникулы — чего байды бить?