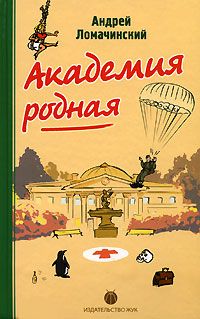Олег Смирнов - Эшелон
Я сел по одну сторону стола, по другую — комбат и Трушин.
Показалось: я перед судом. Ну, не суд, но врежут, предчувствую.
Комбат сказал:
— Что ж получается, Глушков? Скрываешь чепе? Покрываешь злостных нарушителей воинской дисциплины?
Скрываешь. Покрываешь. Понятно: Головастиков. Я смотрю на стянутое рубцами и потому искаженное лицо капитана, на красивые, удлиненные черты Трушина и молчу.
— Нечего сказать, товарищ Глушков? А сказать надо. Не для оправданий. Для честного признания ошибки. — Это Трушин, его сильный и мягкий, богатый интонациями голос.
— Что за чепе, товарищ капитан? Что за ошибка, товарищ гвардии старший лейтенант? В чем я провинился, не понимаю… — вежливо мямлю я, хитря и выкручиваясь. На людях я не пытаюсь дерзить Трушину, и он неизменно корректен. Все по правилам приличия. Все по уставу.
Комбат буравил меня маленькими, без ресниц глазами, Трушин покачивал массивной, изящно посаженной головой, как бы говоря: ай-я-яй, как не стыдно ловчить, вы же прекрасно знаете, товарищ Глушков, о чем речь. А потом они, перебивая и дополняя друг друга, выложили насчет Головастикова и моего гнилого либерализма. Подытожил комбат:
— Ежели мы будем так миндальничать, то в Мирных условиях, да еще при передислокации, разболтаем личный состав вдрызг.
Пойдут пьянки, за ними — самоволки. Растеряем людей! Головастикова ты зря не посадил на «губу». Напоминаю: она у нас в эшелоне есть. Покамест пустует, но я не думаю, что так будет до конца пути. Откровенно говоря, я б тебя туда засадил не без удовольствия — заместо Головастикова. Чтоб впредь неповадно было миндальничать… Ладно, объявляю выговор и предупреждаю: ни один проступок не оставлять без наказания. Втемяшилось, Глушков?
— Втемяшилось, товарищ капитан.
— Изволишь иронизировать?
— Нет.
— А чего тянешь через губу?
— Я говорю нормально, товарищ капитан.
Я и впрямь не иронизировал, старался говорить нормально, а губы кривились — это факт. Не с раздражения, не с обиды — с чего-то еще. Я глядел на комбата и замполита, они глядели на меня. Капитан чихнул, утерся носовым платком. Трушин постучал по столу согнутыми пальцами, будто призывая кого-то к порядку и тишине. За плащ-палаткой сонно, неразборчиво выругались, сонно же простонали. Комбат сказал:
— Втемяшь, Глушков: первосущная задача — довезти до пункта назначения весь личный состав, до единого человека. Иначе с нас головы посымают.
— И партбилеты выложим, — сказал Трушин.
Я промолчал, и они умолкли. Состав тряхнуло, и он покатил, пабирая разбег. Поскольку поезд пошел, можно было продолжать драконить меня — до следующей остановки, — однако и комбат, и Трушин молчали. Капитан зевнул, встал и, прихрамывая, скрылся за плащ-палаткой — мелькнула его атлетическая, рюмочкой, фигура, со спины красавец мужчина. А я почему-то подумал: "Как мы все многословны, где достаточно слова, закатываем речугу".
Подумал и представил себе, как водопад нужных и ненужных слов низвергается на людей и разбрасывает их, расшвыривает, отдаляет друг от друга. Могучий, непреоборимый словесный водопад, дробящий людей на отдельно взятых человеков. Разделяющий их. И, подумав об этом и представив это, я почувствовал: комбат с Трушиным, в сущности, чужие мне, да и я для них чужой. Наверно, это так. Хотя раньше таких мыслей у меня никогда не возникало. Но раньше — то была война. Нынче — мир. Который на полпути к новой войне. Ну, может быть, не отчужденность наступила, но и близости прежней, фронтового товарищества нету между мной и теми, кто едет в штабном вагоне, и в вагонах моей роты, и в остальных вагонах. Один ли я испытываю такое чувство или другие тоже?
Характерный пример этой отчужденности — случай с Головастпковым. Полез на офицера с кулаками. Разве подобное было возможно на фронте? Сомневаюсь, весьма сомневаюсь. Я вспомнил о Головастикове, и во мне шевельнулась давешняя обида.
Из-за Головастикова, хмыря болотного, сыр-бор разгорелся, и я переживаю, видя в этой истории подтверждение моих сомнений.
Сомнений в том, сохранится ли после войны фронтовое братство, когда все были за одного и каждый за всех. Или же в мирные будни наступят для нас иные законы?
— Да, Петро, — сказал Трушин, понизив голос, — наломал ты дров. И еще выкручиваешься…
— Иди ты, — ответил я шепотом и оглянулся. — Мало ты меня морочил, так и комбата пристегнул.
— И командира полка пристегнул бы, жаль, он не в нашем эшелоне.
— Ну и выслуживайся, хрен моржовый.
— А вот выражаться, Петро, не стоит. Руганью ты унижаешь не меня, а себя. Давай потолкуем по-человечески.
Толковать? Целый перегон? Опять о Головастикове? Увольте.
Но Трушин заговорил будто сам с собой и отвлеченно — вообще о честности и принципиальности, вообще о необходимости твердой руки в поддержании порядка и дисциплины. Я слушал его невнимательно, думал о том, что Трушин едет теперь не в теплушке моего второго взвода, а в разных — то в штабной, то в третьей роте, то у минометчиков, то с повозочными. Видимся мы с ним реже, вот он, должно быть, и ухватился за возможность покалякать со мной. Уж это мы, российские интеллигенты, обожаем — поизливаться о высоких и не очень высоких материях.
Впрочем, разве я интеллигент? Несостоявшийся студентик. Солдат, вояка. Хотя иной раз и не прочь пофилософствовать о том о сем. Сейчас — неохота.
Однако Трушин втянул-таки меня в разговор. Произнеся какую-то тираду, он спросил:
— Что ты на это скажешь?
— Я тебя плохо слушал.
Тогда он повторил:
— Бытует мнение: честность — врожденное свойство человека.
Я не согласен с этим. Мое мнение: честность, как и прочие моральные качества, приобретается человеком в процессе его воспитания. Все зависит от воспитания. Можно воспитать подлеца, можно — подвижника. То есть обстоятельства формируют личность. Ты как считаешь?
Не хотелось ввязываться в беседу. Тем не менее я сказал:
— Видишь ли, во-первых, честность всегда носит конкретный, социальный характер. То, что честно для буржуазии, бесчестно для пролетариата, и наоборот.
И подумал: "Только что посылал Трушина подальше, а сейчас сплошное наукообразие. Богатый словарь у товарища Глушкова!"
— Ну, а во-вторых? Что во-вторых?
"Подзуживает на собеседование", — подумал я и сказал:
— Еще не окончено «во-первых»… По-моему, мораль насквозь классова. К примеру, у фашистов своя мораль, у нас своя. А вовторых, нельзя все сваливать на обстоятельства. Человек на то и человек, чтоб влиять на них. В определенной степени, разумеется.
— Что значит определенная степень? Чем определяется?
Чем — этого я не знал. Трушин глубокомысленно произнес:
— Ты, пожалуй, прав. В том отношении, что человек и обстоятельства взаимосвязаны, взаимно влияют. Но нет правила без исключений: подчас человек становится хозяином своей судьбы, подчас — рабом обстоятельств. Диалектика! Вернемся, однако, к проблеме честности, порядочности, в конечном счете — принципиальности. С учетом того, что это классовая категория. Я так считаю: если человек честен, принципиален, на него во всем и всегда можно положиться, остальные его качества — это как бы производные от того, основного…
У меня разболелась голова — так бывает при умных разговорах натощак. Хотя, каюсь, неравнодушен к ним, как и наш замполит. Я потер виски, лоб, затылок.
Трушин начал развивать мысль о том, что важно быть честным и перед обществом, и перед собой, но поезд притормаживал, и я встал, прощально козырнул. Спрыгнул наземь и затрусил вспять к своему вагону. Эшелон стоял в лугах, подбеленных росой. В росной траве темнел прерывистый след — человечий ли. конский ли. У насыпи дышало озерко, в нем просматривались стебли пузырников — бурых водорослей. Над озерком махало крылами, булгачилось воронье.
Завтрак запаздывал. Двери теплушек были закрыты. Дрыхли славяне. А меня начальство с утра пропесочило. Натощак это особенно вредно.
Эшелон без гудка тронулся. Я припустил, догнал теплушку — дверь закрыта, затарабанил кулаком — ни ответа, ни привета, отстал — и эта теплушка заперта, и следующая. А колеса стучали уже угрожающе часто. Эшелон ускользал от меня, было ощущение — вагоны проскальзывают между пальцами, — нелепое, конечно. Не без усилий вскарабкался я на подножку тормозной площадки. Вообще-то мог бы отстать. Перспективка: остаться в безлюдных лугах, куковать вдали от жилья.
На тормозной площадке гуляли сквозняки, и меня в гимнастерочке быстро просифоыило. Я забился в уголок, сел, обхватив колени. Кожа замурашилась. Зазнобило. Дьявольщина, обидно мерзнуть, когда лето на дворе. Правда, чувствовать начало июня лучше в теплушке, нежели на простреливаемой сквозняком площадке.
Брр!
Сыростью и гнилью дохнули ржавые, вспученные болота. За болотами — хилый лес и еще более хилый подлесок. На взгорке — захлестнутое бурьяном погорелище. Стародавняя, обвалившаяся траншея прерывалась у раздолбанного, в ухабах, проселка. Трапшея наша. У немецкой острые углы, зигзаги, а тут колена плавные. Да и стрелковые ячейки, пулеметные площадки обращены на запад. Когда-то братья славяне держали оборону. Вон развороченная землянка, вон автомобильный скат, вон каска, полная воды, и вон вторая каска — в ней, как в горшке, растут цветы и травка, — вероятно, в каску нанесло земли.