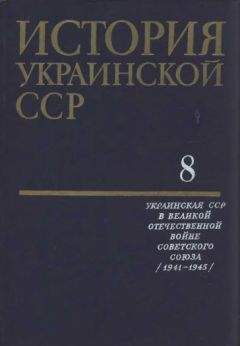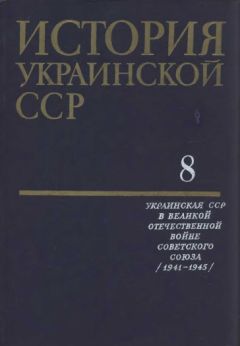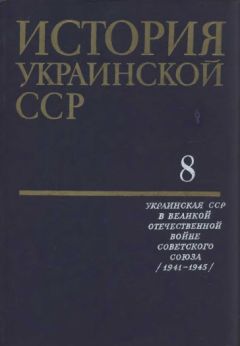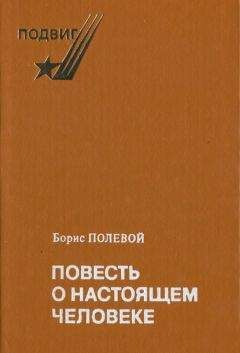Николай Бирюков - Чайка
Глава восьмая
Деревья густо переплелись ветвями, и лишь кое-где на лица партизан и на рыжую от прелого игольника землю падали полоски лунного света.
В разных сторонах появлялись вдруг и исчезали мерцающие отсветы — это на освещенное место попадал чей-либо колыхающийся штык или диск автомата, а издали доносилось татаканье пулеметов: студент Ленинградского института горной промышленности Николай Васильев, председатель рика Озеров и Люба Травкина прикрывали отступление отряда.
Катя стояла неподалеку от Зимина, возле лежавшей на земле Зои, и настороженно прислушивалась к голосам, отзывавшимся из темноты.
— Годова?
— Здесь, — ответила покатнинская колхозница.
Вот всегда за фамилией этой колхозницы командир называл фамилию Феди, и механик весело говорил: «Есть! Голова цела, а ноги не помню».
— Данилов! — окликнул Зимин.
— Здесь.
Катя вытерла навернувшиеся слезы.
«Вычеркнут из списка… а может быть… может быть, уже и… из жизни. Только вот из сердца — трудно, так трудно вычеркнуть!»
К концу переклички пулеметы смолкли, и как-то отчетливей и ласковей стал глухой шум леса. Стволы редких берез, мерцавших бледными полосами, оттеняли его черноту. Вдали изогнутым хвостом взметнулась ракета — сигнал пулеметчиков: «Все благополучно».
— Недурная ночка! — пряча книжку в карман, сказал Зимин.
Это означало, что бой прошел без потерь. Шестьдесят человек пришли в Покатную, шестьдесят вернулись в лес. Из одиннадцати раненых только одна Зоя не могла итти — пулями пробило ей обе ноги, но раны были не опасны. Напряженная тишина, державшаяся во время всей переклички, взорвалась радостным гулом мужских и женских голосов. Зимин выжидающе смотрел в ту сторону, откуда должны были появиться пулеметчики. Отряду в эту ночь предстояла еще одна боевая операция. По сведениям, доставленным Женей Омельченко, часа в три ночи по Жуковскому большаку должен пройти автотранспорт с боеприпасами. На большаке отряд поджидали две девушки. Они еще с вечера ушли туда с минами и ящиком гранат.
Партизаны шумно передвигались.
Клин света упал на морщинистое лицо Леонида Степановича Васильева — старого певского учителя, партизанившего теперь вместе с сыном и дочерью. Поглаживая ремень охотничьего ружья, он обратился к Зимину:
— Считаете, товарищ командир, недурно поработали?
— Очень недурно, Леонид Степанович. Около сотни немцев, я думаю, положили.
В темноте не было видно лица Зимина, но Катя по голосу чувствовала, что у командира хорошее настроение — такое, какого не было у него еще ни разу за все дни партизанской жизни. Она понимала — причин для радости много: и освобождение заложников, и побитые немцы, и то, что боевая операция прошла без потерь… И в то же время ей было непонятно и обидно: как можно радоваться, когда нет здесь Феди? Может быть, в эти самые минуты он там, в той страшной камере…
— Вот руки у нас и развязаны, — подойдя к ней, сказал Зимин. — Теперь у немцев ни лошадей, ни заложников. Будем бить по мосту. Так, дочка?
Катя промолчала.
— Ты сейчас на Глашкину?
— Да. Немножечко провожу вас, а потом… — Она поправила ремень автомата. — Я думаю поспеть к вам. Оставьте для меня пару гранат.
— Оставим, — улыбнулся Зимин. — У тебя сегодня кто там: Омельченко?
— Маруся должна прийти.
К ним подбежал Ванюша Кудрявцев — четырнадцатилетний парнишка, самый молодой в отряде.
— Товарищ командир, здесь кто-то есть, — сообщил он взволнованно.
— Где?
— Да вот здесь, рядом. Пойдемте!
Партизаны гурьбой двинулись вслед за парнишкой.
Ванюша сначала шел быстро, потом замедлил шаг и, остановившись, молча указал пальцем.
Под низко опущенными ветвями сосны лежало что-то черное, свернувшись клубочком. Это «что-то» задвигалось.
— Собака, — сказал Зимин.
Из темноты сердито отозвался сонный голос:
— Не собака, а человек.
Клубочек развернулся и подпрыгнул. Под сосной стоял мальчишка.
— Какая вам еще собака! — проговорил он уже не сонно, но все так же сердито и смело вышел на освещенное луной место.
— Вася! — изумленно вскрикнула Катя.
Это был Васька Силов, в отцовской куртке, в шапке-ушанке, с добротной солдатской сумкой за плечами. Зимин подошел к нему.
— Ты почему здесь?
— Партизан ищу.
— Зачем?
— Партизанить.
— Гм-м… А откуда ты?
Васька рукавом куртки утер нос и, с любопытством оглядывая всех, сказал:
— Видишь, какое дело, я… — Увидев Катю, он заулыбался. — Здравствуй, Катерина Ивановна! Вот и свиделись…
Она порывисто обняла его.
— О наших что-нибудь знаешь?
— Все знаю.
Неторопливо, со степенностью он рассказал, как ожерелковцы сожгли деревню и все до одного сбежали в лес.
— Да, видишь ли, какое дело, расположились-то сдуру неподалеку. Третьего дня окружили нас и — обратно до Ожерелок. Понимаешь? Скот весь, конечно, угнали, а нам — «рой землянки!» И сторожить остались… Твои, Катерина Ивановна, с моими, да Лобовы еще, да семья кузнеца в одной землянке устроились.
— Слышишь, отец? — вырвалось у Кати, и глаза ее радостно засветились. — Все живы! Понимаешь, прямо камень с души. А сторожат…
— Сторожей снимем, — сказал Зимин.
Его тронула за руку Даша Лобова и взволнованно проговорила:
— Товарищ командир, разреши мне до утра… в Ожерелки… на мать и деда поглядеть.
— Хорошо. Только до утра. Катя опять повернулась к Ваське.
— Ну, а ты как же? Ты тоже там был?
— Был, да только как затемнело, обратно подался. Чего ж, мое дело известное. В лесу мы хоть вольные были, а вместе с бабами да стариками, да еще под немцем… Прихватил у одного фрица вот эту сумку — и тягу…
— Чей это малец? — засмеялся Зимин.
— Силова, председателя нашего. — Катя ласково взяла Ваську за подбородок. — Все-таки не послушался?
Васька вздохнул и снисходительно усмехнулся:
— Ты тогда малость недопонимала, Катерина Ивановна…
Голос его дрогнул: видно, обида не улеглась совсем за эти дни.
— «Маленький», а я и стрелять умею не хуже всякого ворошиловского стрелка. У тяти ружье есть, так я один раз из окна ворону убил. Это еще в мирное время. — Он помолчал и, глядя исподлобья, буркнул: — Стрелять не доверите, так я разведчиком — куда хошь проберусь.
— Ну, какой из тебя разведчик? — подзадорила его Нина, дочь учителя Васильева. — Подошли мы, а ты спишь.
Васька растерялся, сердито шмыгнул носом.
— Так то вы!.. А ежели немцы — разве я не услышал бы?
Дружный хохот покрыл его слова. Давно уже партизаны так не смеялись. Зимин одобрительно взглянул на Катю: со дня исчезновения Феди Голубева он впервые видел ее веселой.
Васька смотрел на всех насупившись, с обидой.
— Ну, как же, Чайка, взять его? — все еще смеясь, спросил Зимин.
— Конечно. Вестью какой порадовал! Стоит за одно это взять.
Губы мальчишки расплылись в такую широкую улыбку, что от нее на веснушчатом лице его как-то вдруг засветились и скулы, и подбородок, и кончик вздернутого носа.
— Ну да, стоит, — сказал он. — Поняли наконец-то! Катя хотела было расспросить его о своей матери, но в это время послышался странный звук: будто где-то вдали раскатисто прогрохотал гром.
Партизаны встревожились: стреляли из орудий. Залп следовал за залпом.
— Кажется, в Покатной, — неуверенно сказал Зимин.
Глава девятая
После ухода партизан тишина в Покатной длилась недолго: на улицы с разных концов села хлынули пьяные, орущие немцы. Приперев бревном калитку, тетя Нюша испуганно слушала: где-то в страхе вскрикнул и оборвался детский голос, с другой улицы несся отчаянный вопль:
— Спасите-е!.. Убива-ают!..
— Пошли в избу! — прикрикнула тетя Нюша на детей. Время казалось остановившимся.
Ни тетя Нюша и никто из ее детей не сдвинулись с места, когда раздался стук в ворота. Немцы сорвали калитку с петель и ворвались в избу. Сутулый, обрюзгший блондин — вероятно, он был старший — оглядел горницу и ткнул пальцем в Ванюшку. Солдаты схватили мальчика.
Тетя Нюша с криком протянула руки. Ее ударили прикладом по голове.
Минут через двадцать в село на полной скорости влетела машина с Максом фон Ридлером.
Два часа рыли покатнинцы возле школы широкую яму. По одну ее сторону, сложенные, как штабели дров, лежали убитые партизанами немцы, по другую — стояла окруженная солдатами толпа. За грудами трупов чернел танк, позади арестованных — второй. Вдоль дороги со вскинутыми штыками выстроились солдаты; за их спинами огромным скопищем стиснулись родственники арестованных — все село. Немцы не пропустили ни одного двора; из каждой семьи вырвали по человеку. Среди арестованных было много детей, стариков, женщин. Ванюшка стоял в первом ряду, лицом к вырытой яме. Рот у него передергивался, по щекам катились быстрые слезы. Рядом с ним, укачивая плачущего ребенка, переминалась с ноги на ногу дочь Фрола Кузьмича, Груша. Она совала в рот ребенку грудь и громко, одеревеневшим голосом баюкала: