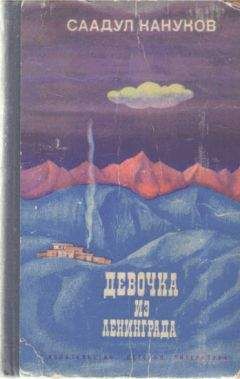Людмила Никольская - Должна остаться живой
Со своего, скудного для молодого мужчины, пайка он ухитряется приносить ей то талон крупяной, то горстку странных шрот с не менее странным сиропом. А в прошлый раз он положил перед ней кусочек настоящего сахара.
Она не сахаром — приходом его счастливая, целовала русую голову сына, заглядывала в его весёлые измученные глаза. А он гладил её по голове, как маленькую, и настойчиво просил о нём не тревожиться.
И сегодня он должен прийти. Ему надо помыться с мылом, переменить бельё. Не забыть бы дать ему чистое полотенце с собой.
— Ну, расходились мои ноженьки… Вот и славно. Сейчас стану топить, и запахнет в комнате жильём. Ты не сходишь мне за водой? А как придёт мой Арвид, помоется, переоденется, и мы все вместе сядем пить чай. — Немного лукаво поглядела на Майю и добавила: — С сахаром…
— У вас сахар есть? Настоящий? — удивилась Майя.
— Конечно, есть. Арвид принёс. Я сахарок расколю щипчиками на три равные части. Ты, голубушка, сходи за водичкой.
Майя пришла в замешательство. У неё самой есть срочное и неотложное дело — идти в восемнадцатую квартиру. Она раздумывала. Тут в голову ворвалась очень умная мысль: если придёт Арвид Янович, он может подсказать, как поступать в дальнейшем с найденной карточкой. Маня говорила, что в восемнадцатой квартире жильцов не видно с самого начала войны. Может быть, они давно эвакуировались. Арвид Янович посоветует, как ей быть с дворником Софронычем. И с подвалом, где водятся крысы, фонарики и патроны от ракетницы.
Она облегчённо вздохнула, взяла бидон для воды и отправилась на Курляндскую улицу.
На лестнице возле четвёртого этажа в её голову ворвалась ещё одна мысль. Ехидная. А не посадят ли её вместе с Софронычем в тюрьму за то, что она столько дней выкупает хлебный паёк не по своей карточке? Мама с горя заболеет, перестанет вязать для фронта. Как тогда бойцы станут стрелять на морозе голыми руками? И вообще, всё вокруг становится хуже и хуже. Толя целыми днями пропадает на Всеобуче. Теперь они не караулят пустые склады, а разбирают деревянные дома на дрова. Где-то на улице Розенштейна. И Фридька хорош. Не подаёт вестей. Наверное, с её фонариком удрал на фронт. Нужен он там, хвастун несчастный!
Эмилия Христофоровна некоторое время находилась в мучительном раздумье. Потом осуждающе покачав головой, она как бы подытожила свои невесёлые мысли и заторопилась. Быстро собралась, и даже в комнату соседки постучать забыла.
— Голубушка Наталья Васильевна! Сегодня должен прийти сынок, я хватилась, а хлеб у меня на карточке не выкуплен, правда, хлеб уже завтрашний. Но сынок придёт… Глупо и преступно просить хлеб в долг, но у меня создалось невыносимое положение. А в обеспечение своего долга я оставлю вам свою хлебную карточку. Надеюсь, вы поверите? За последние дни память у меня ослабела, иногда кажется, что её начисто отшибло. Я хватилась, а оказывается — не выкуплен, и в доме ни крошки.
— Ах, как неприятно, — поморщилась Майина мама. — Я утром отдала Толе. Он сейчас на очень тяжёлой работе. Семнадцатилетние мальчишки деревянные дома на дрова ломают. Только кому дрова дают, непонятно. Но у меня есть дурандовая лепёшка, думаю, вам её хватит. А за вашим хлебом моя Майя сходит, если, конечно, ей доверите. А свою карточку спрячьте в карман, а то потеряете в тёмном коридоре. Куда она запропала опять? Прямо горе!…
— Куда запропала карточка?
— Какая карточка? Я о Майе говорю. Горе с таким неслухом!
— Она ушла мне за водичкой. Не сердитесь на меня, голубушка Наталья Васильевна. Арвид придёт домой помыться, переодеться, а воды в доме нет. А лепёшку вашу я не могу взять, тем более, ваш мальчик на такой тяжёлой работе. Придёт, и поесть нечего. Я сама добреду до булочной. Потихоньку. Только бы там ещё был хлеб. Уже вечер, вдруг он кончился, голубушка?
— Может, мне сходить?
— Что вы! Премного благодарна вам. Скольких вы бойцов обвязываете. Как жить с вами рядом легко. Я дойду. Дверь я не буду запирать, вдруг Арвид без меня придёт. Может быть, он ключ потерял или забыл. Время военное, зимнее, всякое может приключиться. У него столько забот.
Уже сильно смеркалось, когда, выкупив крохотный кусок хлеба на иждивенческую карточку, Эмилия Христофоровна возвращалась домой.
Зимнее время — неожиданное. Днём оно быстрое, мгновенное. Ночь — целая вечность, а вечера словно и нет. В зимнем городе вечер — это та же беспросветная ночь.
Вот и сейчас. Недавно было ещё светло, а тёмное одеяло мрака уже наползает.
Эмилия Христофоровна устала до крайности, еле бредёт по снегу, а сердце в груди неистово колотится от радости. Сейчас она увидит сыночка. Он, конечно, уже дома. Он помылся и ждёт её с чаем. Как раньше ждал её с работы. Какая же она стала беспамятная. Ни воды, ни хлеба в доме не оказалось.
Тропинка, по которой она бредёт, узкая. Приходится то и дело уступать дорогу то женщине с ребёнком, то ещё более старому и слабому человеку, чем она сама. Один раз ей пришлось забраться на обочину тропинки, где особенно глубокий рыхлый снег. Она неудобно и неловко стояла, а мимо неё на фанерном листе везли умершего. Он был завёрнут в синее одеяло с белыми узкими полосками. Почему-то эти полоски бросились ей в глаза, и она не отрывала от них глаз. Она поняла, что погибший — мужчина. Измождённая серая женщина, замотанная до глаз, тяжко дыша, везла нарядную жёлтую фанеру с великим трудом, поминутно останавливаясь то ли от слабости, то ли от горя. Фанерка с умершим неуклюже застревала на узкой тропинке то одним углом, то другим. Женщина тогда дёргала её двумя руками, обречённо глядела себе под ноги.
Эмилия Христофоровна перекрестилась и побрела дальше к своему дому.
У ворот на высоком ящике со смёрзшимся песком полусидел, скорее даже полулежал, мужчина. В очень неудобной позе. Его голова была слегка повёрнута к стене дома, а рука свешивалась с ящика.
Женщина очень спешила. И так не по своей воле пришлось останавливаться в недлинном пути до булочной и обратно. Но её толкнула жалость. Она остановилась возле мужчины, на секунду задержала на нём взгляд, потрогала бессильно опущенную руку в брезентовой варежке.
— Вставай, голубчик, — шёпотом проговорила она. — Нельзя на морозе таком лежать, замёрзнуть недолго, вставай, пересиль себя, голубчик. Иди с богом домой. Ждут тебя дома. Вставай же, открой глаза…
Стало темно. Она потёрла рукой в варежке свои слезящиеся на сильном морозе глаза. Под аркой уже совсем черно, она забыла дома очки и даже не проверила, как ей отрезали талон на карточке.
Она ещё поговорила, потормошила бесчувственного мужчину.
Был он в шинели без погон. Шапку и обувь она не разглядела, да и вглядываться не было времени. Дома ждал её сынок, а она и без того задержалась непростительно.
Словно в ответ на её уговоры мужчина шевельнулся, что-то простонал. Надо было его растолкать, помочь ему подняться с ящика, но чем она могла ему помочь? Дунь ветер — и она сама свалится рядом с бедолагой. Он, видно, в голодном обмороке, посидит, соберётся с силами и встанет, или кто посильней ему поможет. Она оглянулась с надеждой. Но никого не было близко. А ей не под силу. Но она сама бы на коленках поползла к своему Арвиду, если бы вдруг узнала, что он сидит у чьих-нибудь чужих ворот.
Она беспокойно думала о мужчине и несколько раз оглянулась, но было совсем уже темно, и она ничего уже не могла увидеть.
Она шла и ругала себя. Зачем было идти в булочную, обошлась бы лепёшкой. Вечно её подводит наиглупейшее интеллигентское самокопание, боязнь лишний раз причинить кому-нибудь беспокойство.
Дома её ждёт не дождётся единственная радость — сынок, а она непростительно задерживается. Вдруг у него мало времени и, не дождавшись её, он ушёл на свой завод.
В комнате сына не было. Посреди комнаты стоял бидон с водой, принесённый Майей. Самой девочки тоже не было.
А в её душу властно закрадывалось непонятное сомнение и беспокойство. Измученная и ещё больше отяжелевшая от этого, она стала прислушиваться к каждому звуку, который доносился снаружи. Немного посидев на стуле, она стала топить печурку. Вскипела вода для мытья и чайник для чая. Она не стала закрывать крышкой перегревшуюся воду, чайник же укутала махровым полотенцем, чтобы он не остыл до прихода Арвида. Всё так же размеренно, заставляя себя что-то делать, чтобы не остаться наедине с беспокойством, она мелко наколола щипчиками сахар, красиво разложила на розетку для варенья. Подумав, отложила пару кусочков для Майи.
Она снова присела и некоторое время сидела без дела в темноте, чутко слушая тишину. Даже выключила репродуктор и сняла с головы толстую вязаную шапочку. Белые языки бликов бросала через открытую дверцу протапливающаяся «буржуйка». Скоро стало совсем темно, и она дрожащими руками зажгла коптилку. Ей показалось, что та нехорошо подмаргивает. А может быть, и это ей только казалось. Пламя коптилки клонилось то в одну, то в другую сторону, вытягивалось вверх и нагибалось вниз. С портрета хмурился Янис.