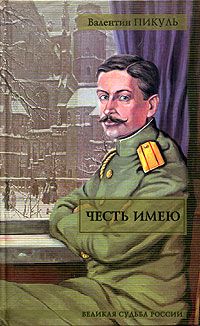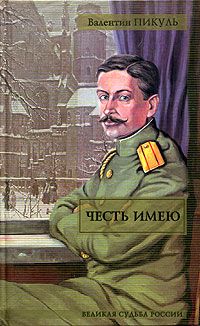Валентин Пикуль - Честь имею
— Это полоса берега Адриатического моря, которое древними славянами называлось морем Ядранским… Что там растет? Там растут маслины, из которых выжимают масло. Еще я знаю, что в аптеках продают «далматский порошок» от блох и клопов…
Для меня этот район славянского мира был особо интересен, ибо я сдавал последний экзамен в Академии как раз по стратегической значимости восточного побережья Адриатики, и теперь мне хотелось взглянуть на него глазами туриста. Я покидал Петербург в те дни, когда на площади перед Исаакиевским собором сооружалось германское посольство. Это было громоздкое безобразное здание, облицованное красным гранитом, с узкими, как в тюрьме, окнами, и петербуржцы называли его «ящиком». Официальным архитектором проекта считался Беренс; столичные жители рассуждали, что это строение своим прямолинейным уродством разрушит прекрасный ансамбль площади.
Когда Столыпину показали план нового посольства, он пришел в ярость, повелев или прекратить строительство, или в корне изменить проект. Об этом он сам и доложил Николаю II.
— Ничего изменить нельзя, — ответил царь. — Здание посольства создается по плану, составленному самим германским императором Вильгельмом, и менять что-либо в проекте неудобно по причине политических обстоятельств.
Кайзеру казалось, что в этом «ящике» воплощена выпуклая идея величия германского духа — Цольре, подавляющего Россию, и два голых арийца из бронзы, поставленные на крыше здания, с трудом усмиряли двух разгневанных рысаков.
— Что делать! — огорченно вздыхали петербуржцы. — Теперь даже в архитектуру полезла эта поганая политика.
(Здание сохранилось в Ленинграде и поныне, но двух голых Зигфридов, ведущих вздыбленных ими Буцефалов, история свергла с крыши, и они разбились при падении.)
2. Мои главные эмоцииПеред отъездом мне дали дельный совет: во владениях Габсбургов лучше не называть себя русским, иначе полиция приставит «попутчика», от которого потом не отвяжешься. Бывалые люди предупреждали, чтобы избегал богатых ресторанов:
— Лучше перекусить в дешевой харчевне. Полиция Австрии так устроена, что каждый человек с деньжатами привлекает ее внимание. Там вообще не разберешь, кому можно хорошо жить, а кому нельзя. Даже офицер в Вене, проехав с дамою по Пратеру на таксомоторе, делается фигурой подозрительной: уж не передает ли он военных секретов русским? А иначе с чего бы это бедному офицеру кататься на моторах?
Я решил ехать под видом немца, возымевшего желание ознакомиться, как из дешевой коринки славяне делают отличное вино. Моим попутчиком от Будапешта оказался толстый баварец, поясной ремень для которого служил точным указателем талии. За время пути он дурил мне голову своими бреднями.
— Все величайшие в истории подвиги принадлежат нам, немцам, — важно рассуждал он. — Лучшие ученые в мире — немцы. А кто сильнее наших гимнастов? Промышленность Германии самая передовая. Самые толковые рабочие — немцы. Где еще можно видеть такие порядки и организацию, как не в Германии? А враги окружают нас, желая лишить немцев их места под солнцем.
Возможно, что с моим отцом-германофилом он и нашел бы общий язык, но я-то, черт побери, всегда оставался в душе славянофилом, и потому… терпел. Я думал, баварец выболтается и уснет, но он деловито пересчитывал:
— Смотрите сами! Великий Данте был немцем до мозга костей, а эти плюгавые макаронники присвоили его себе и теперь наслаждаются. Уже само имя Данте — Алигьери — есть исковерканное немецкое «Альдигер». Наконец, возьмем Боккаччо — это же наш родимый «Бухатц»! Тассо — немецкий собрат «Дассе». Кавур, Манцони и Леопарди имели голубые глаза, что доказывает их арийское происхождение. Казалось бы, что тут спорить? Однако весь германский мир окружен недоверием и врагами.
— Ну а как быть с Вольтером? — спросил я, зевая.
— У него типичный череп арийца, — последовал ответ…
Так я столкнулся с наглейшим проявлением пангерманизма, из потемок которого, аки гад из-под коряги, вылез германский фашизм. Национальное чванство начинается со сравнений: кто из народов лучше, а кто хуже? Кажется, любому из народов мира принадлежат разные качества, добрые и плохие. Я немало читал наших славянофилов, но, несмотря на многие завихрения их умов и сердец, они все же не додумались до того, чтобы русифицировать черепа Вольтера, Канта или Байрона. Наши ура-патриоты помалкивали даже о том, что «Берлин» (запруда) когда-то был рыбацкой деревушкой славян на берегах Шпрее, и никто не виноват в том, что именно там сложился административный и боевой центр всей Германии…
Триест был базой австрийского флота. Но я сразу услышал в этом городе певучую итальянскую речь. Не знаю, каково жилось итальянцам в Триесте, площади которого были обставлены памятниками Габсбургам, а на Пьяцца-гранде журчал фонтан имени Марии-Терезии, — все это напихала туда Вена, чтобы «макаронники» не слишком-то задавались. Но итальянцы отомстили немцам своим памятником великому Данте. О жителях лучше всего судить по газетам. Я купил их 34 штуки сразу, вышедшие из типографии Триеста только за один день. Простая статистика подсказала мне, кому должен принадлежать Триест: из 34 газет 29 печатались на языке итальянском, 3 — на словенском и греческом и лишь одна на немецком…
Я не стал задерживаться в этом странном городе!
Меня ожидал Фиуме, известный производством торпед, которые за большие деньги покупал русский флот для своих миноносцев. Но для меня Фиуме был значительнее по иным причинам: отсюда, из этого города (славянской Риеки), мама, покинувшая меня, еще мальчика, прислала свое последнее письмо…
* * *В своем описании ограничусь лишь главными эмоциями.
Сразу за Фиуме я попал в очаровательный мир, меня окружали магнолии, розмарины и бесплатные лавры, вполне пригодные для заправки супа: здесь же, среди развалин древности, торопливо бегали трамваи и шлялись австрийские патрули, с подозрением вслушиваясь в звучание сербской речи. Габсбургами был нарочно придуман «боснийский» язык, дабы лишний раз доказать покоренным жителям, что они не имеют ничего общего с сербами. Я купил грамматику «боснийского» языка, которая оказалась превосходным пособием по изучению именно… сербского!
Еще от Фиуме я заметил, что хорваты-католики не жаловались на гнет Австрии, покорные немцам, за что сербы нарекли их презрительной кличкой «шокцы». Габсбурги в своих владениях натравливали мадьяр на тех же самодовольных хорватов, а хорваты при каждом удобном случае третировали сербов. Таким образом, все живущие на лучезарных берегах Ядранского-Адриатического моря притеснялись не только оккупантами, но и сами грызлись меж собою, как бездомные собаки.
На пароходе австро-венгерского Ллойда я отплыл к югу до Котора (Каттаро), откуда неприступной стеной высилась Черная Гора — Черногория с независимым и гордым народом и где владения Габсбургов кончались, ибо австрийцы страшились черногорцев, как бес ладана. Я своими глазами видел, что в буфете парохода становилось пусто, едва плывший с нами черногорец брался за нож, чтобы отрезать кусок буженины.
Наш пароходик делал остановки в приморских городах Далмации. Все впечатления от Триесты и Фиуме разом померкли, почти раздавленные величием и красотой славянской старины, перемешанной с латинской. Древние базилики и капеллы, храмы и ратуши, статуи мадонн, глядящих с берега моря в синий простор, римские ворота и триумфальные арки — все это ошеломляло!
Тем же ножом я отрезал себе кусок пирога.
— Лепо място, — сказал я черногорцу.
Он шевельнул усами, обнажив в улыбке чистые зубы.
— Хвала, — отвечал черногорец, берясь за вилку…
Первые зачатки просвещения сербы Далмации впитали еще от Византии, от сказочной Венеции. Может быть, со временем здесь бы и сложилась страна необычной судьбы, если бы не трагический Видовдан в 1389 году, сразу уничтоживший на Косовом поле царство славян с политическим и культурным могуществом, способным влиять на другие народы Европы, как влияли потом на всех нас итальянцы и французы. Но, как сказано у мудрого Квинтилиана, «история существует сама по себе, и ей безразлично, одобряем мы ее или не одобряем…».
Наконец мы доплыли до Сплита (Сполато); тут я увидел славянскую Помпею — развалины древнего Салона, разоренного еще вандалами Аттилы. Глядя на расколотые мозаики и обломки барельефов, ныне украшавшие лачуги бедняков, я горестно размышлял: для того ли пролилось столько крови в этих местах, для того ли выпало столько бурь, чтобы теперь догнивать под ярмом Габсбургов и греться возле очагов, сложенных из руин великолепной древности? В гуще виноградников я набрел на столь обширное кладбище, что сделалось страшно: сколько веков жили люди, радовались и умирали, их голоса и смех навеки исчезли для нас, и тут я невольно осмыслил не только слабую тщету жизни, но и все ее подлинное величие! Но покинул я кладбище в тревоге. Наверное, никакой Везувий не мог принести столько вреда Помпее, сколько приносят в мир войны, изуверства и целые эпохи молчаливого народного отчаяния…